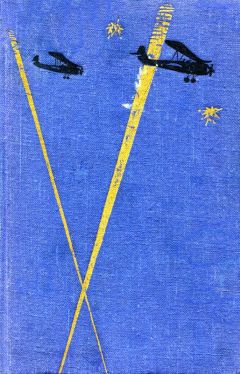Я не успеваю затворить за собой дверь.
— Бугров, что такое искусство?
Это Дима Рогачев. Он сидит на своей койке, прижав острые колени к подбородку, его очки в черной оправе нацелены на меня в упор.
— Что такое искусство?..
Марахлевский, который мечется вдоль стола, на миг замирает, вскинув узкую лошадиную голову на неестественно длинной шее, и опаляет меня бешеным блеском угарных зрачков;
— Б-бугров?.. Не п-признаю!
Он заикается от возбуждения.
— Я ут-тверждаю: искусство — это д-дыхание вечности! Т-только так!..
— Бред сивой кобылы!
— Идеалист!..
— Декадент!..
Чем-то тяжелым колотят в потолок — это возмущаются этажом выше. Мне на голову сыплются корочки известки. Напрасно Рогачев пытается что-то объяснить — его голос вязнет в гуще других голосов. Наконец Полковник, единственный сохраняющий спокойствие, нашаривает под своей тумбочкой гирю-двухпудовку, заменяющую для нас по утрам гантели.
— Кто будет орать — закатаю в лоб,— говорит он, ставя ее между ног.— Высказывайтесь по порядку!
— Два слова! — умоляет Марахлевский.— Два! — Он поднимает вверх два пальца.
— Трепись...
Марахлевский весь вытягивается, веки опущены и подрагивают, губы мелко шевелятся, он вспоминает:
Здесь девушки стареющие в челках
Обдумывают странные наряды,
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сны Шахерезады.
Прозрачна даль, немного винограда
И постоянно дует ветер свежий.
Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же...
Читает он нараспев, будто колдует, и последняя строка оседает во мне своей странной, щемящей тоской.
Но почти одновременно в разных концах комнаты лопаются изнемогшие от минутного молчания рты:
— Чушь!
— Кто это написал?..
— Чистое искусство!
— Ублюдки!— огрызается Марахлевский.— Что вы понимаете в поэзии?..
На него обрушивается Серега Караваев:
— Ты лучше скажи, ты хоть раз был в свинарнике? Как корову доят — видел? Чем навоз пахнет — нюхал?
— Зачем?..
— Зачем?..— Сергей спрыгивает на пол, его лицо буреет от гнева. — А затем, что — езжай в деревню да почитай эти стихи людям! Понял?.. Не фифочкам разным, народу!..
Сергей — красивый, плотно сложенный парень, он хорошо, всем лицом улыбается, обнажая ровные белые зубы; его стихи печатают в областной газете, он самолюбив, но добродушен, только Марахлевский может довести его до неистовства.
— Народ?.. А ему что, Сизионов нужен? Или твои вирши про доярку? Это — искусство?.. Это — рифмованный рацион кормов!
— И пускай рацион!— кричит Хомяков.— Пускай рацион! Без рациона коровы молока давать не станут, а после твоих стихов и последнее потеряют!..
— Хватит,— хлопает ладонью по столу Рогачев, дайте же мне, черти!..— И, когда остальные стихают, продолжает, додумывая на ходу какую-то мысль.— Может, это и хорошо — сны Шахерезады... Да уж слишком... интеллигентно, что ли. Когда у мужика от работы пуп трещит, когда баба с утра до ночи в поле ворочает, что твоя лошадь,— они и без Шахерезады обойдутся... А уж если до книги дойдут... Тут Шахерезадой не отыграешься! Тут ты должен им всю правду выложить, что и как, и почему так, а не эдак,— правду, без фальши, простую, как черный хлеб. Ведь что Марахлевский, что Сизионов — пишут черт-те о чем, только не о том, что есть на самом деле. А искусство — это как хлеб, как вода... Не пирожное, не конфетка! Мы в сорок седьмом из картофельной шелухи суп варили, а то из крапивы... А у Сизионова пиры пируют да частушки поют!.. Пели и частушки, только какие?..
— А вот я сейчас припомню...— Ваня Дужкин закатывается клокочущим, ядовитым смехом, но замолкает, заметив выражение Димкиного лица,
— Помолчи,— сурово приказывает Рогачев, посмотрев зачем-то на дверь и потом на окно.
Ребята сидят насупясь, не глядя друг на друга, и что-то тяжелое, сумрачное, мужичье сквозит в их лицах, на какой-то момент становящихся вдруг похожими одно на другое. И мне вспоминается, как па первом курсе Ваня Дужкин заболел, и я принес ему мандаринов, высыпал на койку и сказал: «Ешь». И Ваня Дужкин взял один мандарин и стал его есть, стал грызть — прямо с кожурой, прямо с оранжево-золотистой горькой кожицей, я так и запомнил: удивленное, сморщенное от горечи лицо с надкушенным мандарином у губ.
Я с детства умею есть мандарины.
Я тоже видел кое-что в жизни, и знаю такое, о чем не мерещилось этим ребятам, и все-таки я с детства умею есть мандарины, и щемящая грусть стихов, которые читал Марахлевский, мне близка. Я чувствую сейчас себя чужаком, почти предателем.
Но я думаю о том, что завтра Рогачев должен делать доклад на торжественной встрече. Думаю о статьях, которые появятся в нашей «Комсомолии». Густая, горячая злость закипает во мне. И весь этот шум, этот спор с пеной на губах кажется мне безнадежным, давно пережитым ребячеством.
— Хорошо,— говорю я, как мне кажется, очень спокойно.— Мы с Марахлевским не знаем, чем пахнет навоз (я останавливаю Диму, он хочет что-то возразить, но я останавливаю его). Хорошо. Зато вы — земляная сила, черноземная правда и как там еще... Ну и что? Завтра Сизионов въедет в наш город на белом коне, и все мы дружно будем бить в литавры и кидать в воздух чепчики, как это положено с грибоедовских времен. Все — и Дужкин, и Караваев, и Хомяков. Сизионову это будет приятно. Так давайте же ляжем спать, чтобы завтра подняться бодрыми, свежими, полными сил и честно выполнить свой гражданский долг — повыше подбросить свой честный гражданский чепчик. А вечером снова соберемся здесь и прочтем Марахлевскому лекцию о навозе.
Я говорю и ожидаю, что меня вот-вот оборвут — я жду, и хочу этого, но ребята молчат, по-прежнему молчат,пряча друг от друга глаза, и только Полковник зачем-то покачивает в руке и потом с грохотом опускает на щелястый пол свою гирю. Может быть, просто для того, чтобы хоть чем-то нарушить угрюмую, тяжелую тишину.
* * *
Чем я мог ее утешить?..
Я отыскал ее внизу, в пустой аудитории. Она сидела на подоконнике, сжавшись в комочек, положив на колени портфель и уронив на него лицо. Плакала она громко, взахлеб. А я стоял перед нею идиот-идиотом и молол чепуху. Когда я погладил ее по сникшей спине, она заплакала еще горше.
На улице смеркалось, мохнатый сумрак вползал в комнату, поглощая столы, в беспорядке разбросанные стулья, клочки бумаги на полу. Длинная черная доска зияла в стене зловещим провалом.
— Ну, Машенька,— сказал я,— ну, член факультетского бюро, ну эго же смешно...
Но это не было смешно.
...Шла конференция по итогам нашей педпрактики. Вероника Георгиевна Тихоплав, кругленькая энергичная старушка, в неизменной своей кацавеечке на меху, стоя за кафедрой, раздавала студенческие работы. Ходили слухи, что это ее последняя, перед пенсией, практика. Может быть, поэтому, открывая конференцию, бабушка Тихоплав поднесла к глазам кружевной платочек — и в аудитории возникла особенная, растроганная тишина. Говорила она долго, о каждой работе в отдельности, и часто пила из стакана, далеко отставив пухленький дрожащий мизинец с туго врезавшимся перстеньком. И глядя на этот дрожащий мизинец, я думал о тех двадцати пяти годах, которые она отдала школе и институту, и о том, что хорошо бы написать о ней в нашей газете, тепло, по-человечески, с фотографией, да так и озаглавить, как зовут ее между собой студенты: «Бабушка Тихоплав». Я спросил у Оли Чижик, что решили преподнести ей от курса, и Оля сказала, что хотят купить вазу. Я сказал, что вазу покупать глупо, в нее будут класть печенье или яблоки, а надо бы купит бюстик Макаренко, и Оля согласилась, что Макаренко это здорово, надо предложить девочкам.
Так мы сидели, потихоньку перешептываясь, и первая фаза конференции уже как будто подходила к концу. Тетради из рук в руки передавались владельцам, в них заглядывали и закрывали — кто с облегчением, кто с досадой, но больше — с облегчением, потому что бабушка Тихоплав еще никого никогда не лишила стипендии, и так были розданы почти все работы, почти все, — перед Вероникой Георгиевной осталась лежать одна-единственная тетрадь. Машенька, как обычно, сидела впереди, со своими подругами Варей Пичугиной и Наташей Левашовой. Когда она обернулась ко мне, я растопырил пальцы и сказал ей: «Пять?»— потому что не сомневался: она уже получила свою тетрадь с традиционной пятеркой. Но я успел увидеть лишь ее встревоженные чем-то глаза — в тот же момент она отвернулась, а бабушка Тихоплав поднесла стакан к губам, и пухлый мизинчик с перстеньком задрожал особенно крупно.
— Надеюсь,— сказала она,— вы простите мне, товарищ Иноземцева, что я нарушила алфавитный порядок по отношению к вам?..