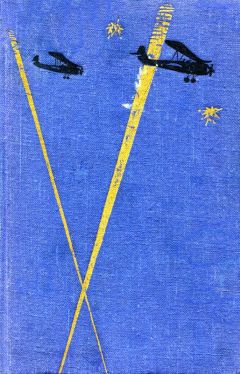— Надеюсь,— сказала она,— вы простите мне, товарищ Иноземцева, что я нарушила алфавитный порядок по отношению к вам?..
— Конечно,— донеслось до меня,— что вы...
— Благодарю.
Аудитория уже успела устать, дожидаясь перерыва, но к голосе Вероники Георгиевны прозвучало нечто настораживающее.
— Так вот,— продолжала она,— я работаю уже не первый год в школе, и меня трудно удивить. Но тут меня удивили, так удивили, как давно уже никто не удивлял. Когда я читала ваш дневник по педпрактике, товарищ Иноземцева, я спрашивала себя: что это? Неужели я читаю дневник своей студентки?..
Скрипнули стулья. По рядам зашелестел шепоток.
— Простите, но мне неприятно еще раз перечитывать многие места... Я попрошу вас, Федор Евдокимович, помочь мне в этом...— И Вероника Георгиевна торжественным жестом передала тетрадку руководителю нашей группы.
Это был праздник. Он продолжался целых полтора месяца. Каждый день мы встречались утром и прощались вечером со словами: «А завтра — опять!» Мы выдумывали необычные уроки, разжигали диспуты, читали на кружке Маяковского и Блока, с азартом работали на воскресниках, мы хотели перевернуть за шесть недель всю жизнь в нашем классе, чтобы стряхнуть с ребят сонную одурь... Когда кончилась практика, мы еще долго забегали в школу, пока однажды Виктория Федоровна, сухо улыбнувшись, не сказала: «Знаете, мне кажется, вам больше не следует бывать у моих учеников...»
— Но почему же?— огорчилась Маша.
— Видите ли, я не могу уделять им столько же внимания... У меня четыре класса, три подготовки... Когда вы придете на работу, не на практику, вы поймете: школа — ни забава...
Мы ушли, чувствуя, что она в чем-то права.
— И все-таки я никогда не стану такой!— сказала Маша.— Пусть у меня будет сорок четыре класса и тридцать три подготовки!
Оля Чижик как вцепилась в мой рукав, так и не отпускала, и все твердила — сначала тихо, а потом, когда смешочки поползли по аудитории, все громче: «Не лезь... Не связывайся...» Я бы и не лез, не связывался, я бы просидел, сцепив зубы, я уже привык и, кажется, все мог выдержать, сцепив зубы, и даже улыбаться при этом — только, может быть, не так уж естественно улыбаться, как положено,— все могу выдержать, только одного не мог — когда при мне издеваются над ребенком. И эта вовсе не из благородства, не из альтруизма, — все это дичь, и благородство, и альтруизм,— просто какие-то давние воспоминания, возможно, пробуждаются во мне, я и сам начинаю чувствовать себя этим ребенком, ребенком — и вместе с тем здоровым парнем, который по утрам вместе с Полковником выжимает двухпудовку; и тогда мне хочется прежде всего кому-то дать в зубы, а потом уже подумать, как и что. А Машенька — она-то и была как раз ребенок, наивный такой, улыбчивый, ласковый ребенок, которого нельзя обижать. И она писала в своем дневнике по педпрактике — не как остальные: «выполнено, проведено» а все, что видела, все, что думала — о нудном, сухом литераторе, который не интересуется современной литературой, не читает ни новых книг, ни журналов; о преподавательнице химии, которая брюзжит по поводу каких-нибудь заколок и бантиков на девочках, а сама одевается неряшливо, неопрятно; о Виктории Федоровне, которая не понимает, не знает своих учеников, а они толковые, любознательные ребята, и хулиганят часто просто со скуки, она писала о том, как грустно кончать практику и уходить из школы,— грустно и за себя, и за ребят, которые опять останутся наедине с этим литератором и Викторией Федоровной.
Она писала обо всем горячо, искренне, наивно, как одна она могла бы писать. И вот теперь я смотрел, как Федор Евдокимович, маленький такой, всегда пришибленный, застенчивый, с головкой несколько набок,— как он своими слюнявыми губами произносит Машенькины слова, как он их коверкает, и уродует, и пачкает. И я терпел, терпел, и улыбался даже, наверное, только не слишком естественно, и Оля все повторяла: «Клим, ты не связывайся... Брось...» И только когда он с дурацкой клоунской интонацией закончил последнюю фразу, когда все чему-то засмеялись, а Машенька вскочила — и сверкнул звонкий, наивный ее голосок:
— Так это же правда!...
И он ответил улыбаясь:
— Кое-что, может, и правда, да ведь зачем обобщать?..— вот тут-то я и вскочил.
— А как же не обобщать? — сказал я, как мне показалось, очень тихо.— Обобщать — значит мыслить. Вы хотите избавить нас от этого недостатка?
Федор Евдокимович заулыбался еще шире, а бабушка Тихоплав посмотрела на меня поверх своего пенсне так, как посмотрела бы хозяйка на гостя, если бы он взял да и плюнул на только что поставленный посреди стола именинный пирог.
— А вас кто спрашивает? — сказала она.— И что это за «нас» — кем вы уполномочены бросать подобные реплики?..
Меня перебила Машенька:
— Помолчите, товарищ Бугров! Я могу ответить сама за себя!..
Она было начала рассказывать о том самом, о недавнем факте, о Витьке Черноусове и Лене Пересветовой, но ее прервали, не дали договорить, и тут все покатилось кувырком.
Трезвые, веские мысли ко мне приходят всегда потом, это я сейчас понимаю, что Олег был прав, несколько страничек в дневнике студентки-практикантки — ну какое и для кого имеют они значение? Но когда он вмешался и заговорил с обычной своей снисходительной небрежностью, и все повернулись к нему — выступал он редко, может, оттого и зазвучали для всех так значительно его слова,— так вот, едва он заговорил, и я почувствовал, что он хочет защитить Машеньку (а может быть именно это как раз и подхлестнуло меня), тут я вскочил, и дальше меня уже понесло.
— Мне кажется, спор идет не по существу,— сказал он примирительно.— Конечно, Иноземцева права, в каждой школе есть свои недостатки, никто не возражает... Но в запальчивости она сгустила краски, получилась не очень-то серьезная буря в стакане воды... Если разобраться, она просто не сумела четко сформулировать свои мысли, а древние греки говаривали: войны начинаются из-за неточного употребления слов...
Кое-кто уже улыбался, и бабушка Тихоплав благожелательно кивнула несколько раз, пока он говорил, но черт дернул меня кинуться на рожон.
— А что сказали бы древние греки о школе, где в самых способных учениках давят и гасят всякую мысль? Где пятерки ставят за тупость и усердие? Где бездумное послушание считается главной человеческой добродетелью Это — школа? Это — воспитание? Это — педагогика?..
Не помню, что я еще говорил, только Вероника Георгиевна и Федор Евдокимович все твердили:
— Не позволим опошлять!.. Не дадим очернять!..
И Варвара Николаевна, высокая, смуглая, похожая на цыганку, все время делала мне какие-то знаки и прижимала палец к губам.
— Теперь мне все понятно,— сказала Вероника Георгиевна, когда я, наконец, замолчал.— А я-то удивляюсь: Иноземцева, такая милая студентка, и вдруг... Но теперь мне ясно: ей казалось, будто она записывает свои мысли, а на самом деле...
— А что же на самом деле, Вероника Георгиевна?— сказала Маша вставая.
— На самом-то деле вы записывали то, что вам на ушко нашептывал Бугров!.. Вот у кого вы идете на поводу, милая моя!..
— А я не лошадь, чтобы ходить у кого-то на поводу! — звонким голосом отчеканила Машенька. И вдруг, вся багровея от гнева, схватила портфель и выскочила из аудитории.
Я постоял секунду в наступившей вдруг тишине и, чувствуя, что надо что-то сделать, а что?..— вышел вслед за нею. Оля Чижик, вцепившись в мой пиджак, стремилась меня удержать,
— Вазу,— сказал я ей довольно громко,— Для печенья.— Не знаю, сразу ли она меня поняла...
И вот теперь мы были в пустой сумрачной аудитории, я и Маша, и я не знал, что ей сказать, и только гладил по мягким пушистым волосам, и все. Наконец она вынула из кармашка платочек и вытерла мокрое лицо,
— Господи,— сказала она, не глядя на меня, ну что ты со мной, как с маленькой?.. Я же не маленькая... Только у меня это бывает... Вдруг такая тоска, и все так пошло, так гадко, и кажется, ну зачем дальше жить?.. Или вдруг ночь — а я проснусь и плачу, сама не знаю, отчего... Я просто дура, вот и все. Не обращай на меня внимание, это сейчас пройдет...— Она закусила краешек платка,— Ну, скажи, почему это так случается: хочешь только хорошего, а выходит совсем не то, совсем не то...
Я представил себе, как в те самые минуты, когда я лежу у себя на койке и в руке у меня пачка старых писем, которые я знаю наизусть, — тут же, почти рядом, на Плеханова 26, в комнате с цветными занавесками лежит она, свернувшись калачиком, уткнув лицо в горячую, влажную подушку... Я вспомнил, как она уговаривала меня — там, за мостом: «Так нельзя, Клим, на свете столько хорошего!»
Наверное, прозвенел звонок, в коридоре послышались топот и голоса. Вспыхнул свет.
— Вот вы где?..
В аудиторию вбежали Варя Пичугина и Наташа Левашова.
— Что вы наделали!— выкрикнула Варя.— Что теперь будет!