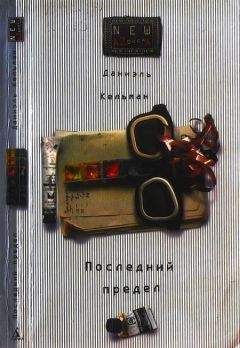Три пачки снотворного, растворенные в воде. Еще накануне, как показало вскрытие, она села в кресло, в котором, насколько он помнил, всегда сидел отец, опустила ноги на ковер, где когда-то пробуждались к жуткой жизни игрушки, включила радио, — но там шла передача о здоровье с советами врача, — а потом глоток за глотком, как и следует, выпила целый стакан. Все случилось минут за двадцать, не больше, если верить медицинским справочникам. Юлиан пытался представить себе, как она ждет, как огромное зеркало на стене в последний раз отражает ее образ; но, непонятно почему, в голове роились лишь неуместные мелочи, бессмысленные и не поддающиеся проверке. Сосед, наверное, подстригал газон, где-то поднимался из трубы дым, машина искала место для парковки, а почтальон опускал в почтовый ящик три конверта с рекламой. Яд усыплял тело, замедлял движения и только потом, впрочем, очень скоро, действовал на сознание. На чем в конце концов остановился ее взгляд, что было самым последним: зеркало, телефон, ковер или изрыгающий звуки приемник? Конечно, он не знал, никто этого не знал, глаза покойника ничего не выдают, их взгляд угасает вместе с сознанием, и там, где еще несколько секунд назад находился человек, оставалось нечто размытое, дрожание в воздухе, больше ничего. Мать еще отставила стакан, правда не на матерчатую салфетку, годами для этого служившую, — вот, пожалуй, единственное подтверждение того, что мир для нее постепенно меркнул. И почтальон, насвистывая, отправился восвояси, машина нашла место для стоянки, сосед отставил газонокосилку, а врач посоветовал слушателям снова включить радиоприемники через неделю. Только дым продолжал подниматься в небо, принимая различные формы под воздействием стихавшего и снова набиравшего силу ветра. Тело пролежало всю ночь в пустом доме, хоть это и не совсем верно, так как зеркало ни на секунду не упускало неподвижного двойника. Около семи рассвело, в половине одиннадцатого пришла уборщица, поставила сумку, на какое-то время задумалась, а потом медленно побрела к телефону.
— Но это не твоя вина! — успокаивала Клара.
— Разумеется, не моя! — Юлиан внимательно посмотрел на девушку. Теперь они виделись совсем редко: Клара как будто выросла, повзрослела, цвет ее волос изменился, и тот день, когда моросил дождь, а может, и нет, казался невероятно далеким, словно он его сам придумал. — С чего ты взяла?
— Не знаю! — Она всплеснула руками. — Я просто подумала!..
— Никто не мог ничего изменить, — заключил Юлиан. Нашел глаза Пауля, но тот не отвечал. Брат сидел, обхватив голову руками, и, казалось, думал совсем о другом.
— Прости, — встряхнулся он, — я не слышал!
Он рассеянно посмотрел на Юлиана; Клара с шумом втянула воздух, встала и вышла из комнаты.
— Мы бы все равно ничего не изменили, — сказал Юлиан.
— Скорее всего нет.
— Я это и сказал!
— А как дела на работе? — спросил Пауль.
— Я думаю, сейчас не совсем подходящий…
— Да-да, конечно, не подходящий, — сказал Пауль. — Извини!
— Не очень-то. Я наверняка лишусь места.
— Без него бы никаких компьютеров не придумали.
— Без кого?
Пауль смерил брата долгим взглядом.
— Без Ветеринга. У него есть одна очень важная статья, о возможностях универсального языка жестов, там впервые предлагается бинарная формализация. Двоичная система, так это тогда называлось. Но тебе, конечно, известно.
— О да, — сказал Юлиан неестественно громко, он и понятия не имел обо всем этом. — Во всяком случае, я, похоже, допустил несколько ошибок. Ничего существенного, разумеется!
Пауль снова посмотрел на брата. На его губах заиграла слабая улыбка.
— У меня есть связи в одной страховой конторе. Не так грандиозно, конечно, но…
— Я уже застрахован.
— Да я не об этом толкую, я о работе.
— Как ты сказал?! — Юлиан поперхнулся. — Пожалуйста, не сейчас!
— Конечно, не сейчас, — согласился брат, — конечно, не сейчас.
— Напиши адресок!
Теперь засыпать стало еще труднее. Каждый вечер из темноты возникал образ матери со стаканом воды в руке. Юлиан закрывал глаза и прислушивался к тиканью часов и к уличному шуму. Через некоторое время раздавались голоса, совсем близко, но тихие-претихие, так что разобрать ничего не удавалось. В голове носились странные мысли; и порой он приходил к неожиданным, но вполне очевидным умозаключениям; стоит только пойти назад, и время тоже вернется вспять, а после умножения двух на три с одинаковой вероятностью получится шесть, семьдесят девять или двенадцать; а потом он чувствовал, как становился все легче и легче, как подступал сон и… снова пропадал. И он по-прежнему лежал с открытыми глазами и не спал. За окном поднимался пятнистый месяц, следуя своему пути и заставляя звезды то ярко светиться, то бледнеть, и в конце концов уходил с небосвода еще до того, как под сопровождение поливальных машин предрассветные сумерки подползали к крышам. Нередко он обращался за помощью к счету. И считал, все дальше и дальше, по нарастающей. Не помогало и это, числа постепенно становились угрожающе чужими, но бросить счет казалось тем более невозможным; что-то связывало его, и освобождение не наступало. Он думал о страховой конторе, о Вельнере, его новом начальнике.
Об этом маленьком, лысом, умном и злом человеке. С самого начала Юлиан не мог отделаться от чувства, что его невзлюбили. Во время их первого разговора Вельнер сидел за громадным письменным столом в своем затемненном кабинете, истинные размеры которого не поддавались определению, так как за спиной начальника все тонуло в тени. Вельнер откинулся назад, сложил руки за головой, подтянул колени к животу, поджал ноги и вкрадчивым голосом сказал:
— Дорогой мой, я не уверен… — На несколько секунд умолк, словно о чем-то задумался. — Не совсем уверен, что ваше место здесь, понимаете?
Юлиан молчал. Он понимал очень хорошо. Но продолжал смотреть в пол, делая вид, будто ни о чем не догадывается. Вельнер пожал плечами и меланхолично продолжал:
— Ну ладно, как хотите! Поскольку мы питаем безграничное доверие к вашему брату… Втянетесь в работу, это нетрудно, собственно, мы здесь ничего не… Мальхорн вам все покажет. И кланяйтесь вашей жене!
— Я не женат.
— Ну, не важно.
Вельнер подался вперед, и вдруг его глаза сверкнули, хотя Юлиан уже ни за что не ручался. Он разглядел на столе глобус, подставку с дорогими ручками и маленький янтарный шарик.
Ему выделили место: письменный стол, компьютер, телефон и кучу бумаг, о назначении которых он даже по прошествии многих недель не имел ясного представления. Это были отчеты об авариях, несчастных случаях, катастрофах, выраженные в цифрах: сколько бы там, за окном, ни набралось человеческих судеб, все они подвергнутся обработке математикой. Тридцать один процент супружеских пар обзаводятся детьми, сорок процентов всех вступающих в брак разводятся, в возрасте между тридцатью семью и сорока. И еще до Нового года один процент из ныне живущих отойдет к праотцам; четыре процента от этого числа погибнут в результате несчастных случаев — в аварии, от удара током, а кому-то суждено утонуть; двадцать четыре процента унесет рак, у пятидесяти четырех — сдаст больное сердце. И совершенно не важно, что замышлял или на что в конце концов решался каждый отдельный человек, — расчеты все равно оставались незыблемыми.
— От чего это зависит? — поинтересовался однажды Юлиан. — Отчего окончательные показатели и прогнозы никогда заметно не расходятся?
— Простите, не понял? — Его коллега, толстогубый Мальхорн, безучастно посмотрел на Юлиана. Они сидели в столовой, пахло едой, их разделяли две уже неполные тарелки с супом.
— Я вот тут подумал: все ведь случайно и в любой момент может измениться… Я хочу сказать: ведь может все обернуться иначе?
— Разумеется. — Мальхорн нащупал салфетку.
— Но почему же этого не происходит? Если каждая жизнь зависит от случайностей, почему число аварий не удваивается или наоборот? Ну хоть раз, вот просто так, вдруг, без какой-либо особой причины?
— Статистика, — ответил Мальхорн. — Если она верна, то сбываются даже предсказания.
— Но кто сказал, что они обязательно сбудутся?!
— Если объем данных становится необозрим, — Мальхорн тщательно вытер рот, — то средние показатели приближаются к ожидаемым, — и отбросил салфетку.
— Значит, выходит, мы все — на посылках у статистики, но почему? Я и вы, каждый? Понимаете, о чем я?
— Что ж, если начистоту… — Секунду Мальхорн молчал. Потом отодвинул стул и взял поднос. — Я ни малейшего понятия не имею!
Над письменным столом Юлиан повесил портрет Ветеринга в непомерно большом и уже по тем временам старомодном парике. Некоторое время все шло ничего, но потом Мальхорн начал отпускать на сей счет пренебрежительные замечания, а сам Юлиан понял, что под пронизывающим взглядом мыслителя, да еще с нахмуренным лбом, работать невозможно; он снял портрет и поставил на пол, лицом к стене. Дверь всегда была полуоткрыта, и время от времени он видел Андреа с пачкой бумаг. Иногда она мельком поворачивала голову в его сторону и, прежде чем он успевал ответить, исчезала; тогда улыбка озаряла лицо Юлиана, он хватал пластмассовую ручку, ощущая полное удовлетворение даже после одного взгляда девушки. Ему уже давно не давали покоя, преследуя даже в редких снах, ее глаза, Покатость изящных плеч и желание положить руку на ее головку, склоненную над столом. Прошло еще несколько недель, и только тогда он заговорил. Вскоре они отправились на выходные за город, в пансион.