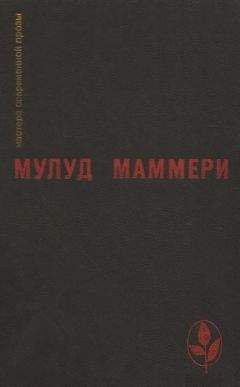Пастух говорил об этом как бы извиняясь; жениться его заставила мать: жаловалась, что нет у нее никого, кто помогал бы ей по хозяйству и в поле. Жену свою он не любит, увидел ее первый раз на свадьбе, при первом же удобном случае расстанется с нею.
— Менаш этого не знает, — сказал он мне полусконфуженным-полупросящим тоном, намекая, что моему брату отнюдь не обязательно знать это.
— Так он и не узнает, — ответил я.
Губы Муха скривились в усмешке.
Не столько от желания курить, сколько от смущения я достал сигареты и предложил Муху; он отказался. Я знал, что он очень воздержан, даже когда члены ватаги передавали друг дружке трубку с кифом[12], он всегда отказывался. Уставившись на клубы дыма, я думал о Мухе. Я снова представил себе, как он впервые появился в казарме в том же коричневом бурнусе, что носил в Тазге. Волосы у него тогда были острижены довольно коротко, теперь он отпустил их; все та же белая шерстяная феска, надетая набок, прикрывала его лоб, из-под четкой линии бровей блестели влажные глаза; движения его и голос ничуть не изменились. Во время разговора он по-прежнему вытягивал длинную шею вперед.
— О чем ты думаешь? — прервал он мои размышления.
— О тебе.
Он устремил на меня серьезный и такой пристальный взгляд, что я смутился.
— Ты поедешь в отпуск на праздник рождения пророка? — спросил я, чтоб уйти от немого вопроса в его глазах.
— Я как раз собирался тебе об этом сказать. Можешь заполнить за меня бланк?
Я был рад переменить разговор и охотно заполнил мятый белый листок, который Мух вынул из кармана. Он попросил не вписывать, куда именно он собирается.
— Ты, конечно, поедешь повидаться с женой? — отважился я спросить.
— Может быть, — ответил он просто.
Накануне отъезда Муха Менаш вернулся домой только в четыре часа утра. Я убеждал его тоже съездить в Тазгу, надеясь, что воспоминания, а особенно присутствие Давды встряхнут его, он вырвется из-под влияния нашего пастуха и его окружения. Но Менаш не хотел ехать, быть может, он втайне предпочитал бесцветность теперешней жизни прежним страданиям. Отчаявшись убедить его разумными доводами, я прибег к последнему средству:
— Пожалуй, ты и прав. К кому тебе ехать? Мух — другое дело, он едет к жене.
Сначала он не поверил. Я передал ему весь свой разговор с пастухом. Глаза Менаша вспыхнули изумлением и злобой.
— Почему вы это от меня скрывали?
Когда Мух вернулся из поездки — бородатый, с растрепанной шевелюрой, с оскаленными зубами, словно он не ел уже несколько дней, — Менаш сделал вид, будто не замечает его. Пастух и сам был явно удручен. Вероятно, его мать и жена жили не очень-то хорошо.
Однако Мух никогда не говорил о своей жене, о доме. Никогда не упоминал о Тазге. Казалось, он с головой ушел в солдатскую жизнь. Все, что не относилось к его приятелям, к его горну, к котелку и учению, для него, видимо, не существовало. Вечерами оставался всего какой-нибудь час, когда усталые стрелки могли собраться и поделиться воспоминаниями. Мух либо сидел в одиночестве, либо присоединялся к первой попавшейся группе и молчал; казалось, он только начинает жить, он был человеком без прошлого. Товарищи привыкли относиться к нему как к пустому месту. О нем ничего не знали и не старались узнать.
Однажды, когда он сидел, прислонясь к стене, вдали от остальных, я подошел к нему. Он сразу вскочил, насторожился.
— Шутки в сторону, — сказал я, — что же это, Мух, ты перестал подавать кофе?
— А что же он об этом не спросит?
— Не решается. С тех пор как ты ездил в отпуск, он очень изменился.
— Ты ему сказал? Да?
— Сказал, а тебе разве не все равно, знает он или не знает?
Мух глубоко задумался. Руки у него опустились. На лице отразилось такое страдание, что я поспешил перевести разговор на более приятную для него тему:
— Что ты нам привез от буадду?
— Я у них не был.
— Так где же ты провел отпуск?
— В Тазге.
Меня охватил непонятный, безрассудный восторг, словно я сам побывал на родине.
— Аази просила передать тебе письмо. Она не хотела посылать его по почте, боялась, как бы не вскрыли в Тазге.
Я не стал упрекать Муха за то, что он не отдал мне письмо раньше, и сунул его в карман, чтобы прочитать, когда останусь один. Пастух теребил шелковистые волосы на затылке и стискивал зубы.
— Как они там поживают? — спросил я.
— Кто? Там почти никого не осталось. Уали и Равех в армии, Мулуд — в Орании, Уамер дни и ночи проводит на полях. А остальные меня уже забыли. Мне даже не предложили поесть, я чуть не умер с голоду. В первый вечер один земляк поделился со мной ячменной кашей, но не мог же я столоваться у него. За последние двое суток я съел семьсот граммов сухарей — вот и все.
— Пошел бы к моему отцу.
— Я не решился пойти к твоему отцу. Искал только тех, для кого играл ночами до самой зари.
Глаза Муха увлажнялись все больше и больше.
— Почему же ты не навестил жену?
— Через месяц после свадьбы она уехала к своим родственникам с материнской стороны. Все ждет, что я за ней приеду.
— А твои поля?
— Не хочу ничего от тебя скрывать. Я не вспахал ни одного арпана[13], не посадил ни одного дерева, не посеял ни меры зерна. Я не раскрывал рта, даже когда пастухи пригоняли коз пастись на мои участки. Пусть другие заботятся о счастливой старости: пусть умрут богатыми, важными и все-таки печальными. А я хочу одного — пожить в свое удовольствие; молодость — дар божий, и упускать ее — грех.
Я мимоходом отметил, что зерно, брошенное Менашем, попало в благодатную почву.
— Я не люблю жену. Она это понимает, потому и уехала; она надеялась, что я позову ее. Я не люблю своих полей; все, что там можно найти, собирают друзья моего отца; они же косят и траву.
Краткие, отчетливые звуки сигнала, сзывающего на вечернюю поверку, заглушили голос Муха; он умолк и продолжал молчать даже после того, как отзвучал горн. Он не шевелился и, казалось, не спешил идти на призыв.
— Вставай, а то еще запишут, что ты в самовольной отлучке, — сказал я.
— Ну и пусть, — отозвался он, пожав плечами.
* * *
По ровному, очень старательному почерку я понял, что письмо Аази написано ею собственноручно. Смысл его был весьма туманен, я прочел письмо по частям и долго размышлял, прежде чем наконец понял, что именно хочет сказать моя жена. Французским Аази владела далеко не в совершенстве, но дело было даже не в этом: она стремилась не столько высказать какие-то мысли, сколько подсказать их.
Перечитав письмо несколько раз подряд и дополнив недомолвки воспоминаниями, я уразумел следующее: моя мать плохо относится к Аази; жена не может объяснить, чем это вызвано, потому что сама не понимает. Если б не заступничество моего отца, моя мать, вероятно, прогнала бы ее; свекровь уже знает, что перемирие подписано, и ждет только моего возвращения, чтобы я сам отослал жену.
«Ты только возвращайся поскорее, — писала Аази, — и тогда мне будет хорошо. Перед сном я каждый вечер молюсь: „Сохрани Мельхе ее сына, чтобы она радовалась в сердце своем“.
Она все мне твердит: „Почему у тебя нет детей?“, но ведь если мне придется уехать, так тебе же будет лучше, что у меня нет детей».
Я пожалел, что не съездил в Тазгу на праздник рождения пророка. Тогда я увидел бы все своими глазами, ведь туманные фразы Аази дают лишь повод для шатких предположений, а главное — мне, быть может, удалось бы восстановить мир.
И вот я впервые стал разузнавать, когда же предполагается демобилизация.
Ответ на этот вопрос я нашел в полученном на другой день письме Идира, который находился тогда в Блиде; письмо было злобное, мрачное. Армия вконец разочаровала моего товарища — характер у него был чересчур независимый, чтобы подчиняться какой-бы то ни было дисциплине. Он рассчитывал на приключения, но его так никуда и не отправили из Алжира. Он сделал все возможное, чтобы стать летчиком, а его зачислили в нелетный состав. Вопреки собственному желанию он попал в учебную часть и должен был стать унтер-офицером — одним из тех, кого он презрительно называл «служаки». Он познакомился только с безнадежно будничной стороной армейской службы. Усталый и разочарованный, он мечтал теперь об одном: уйти из армии. «Еще немного, и я испещрю всю казарму гигантскими надписями: „Домой! Да поскорее!“ А наша очередь, говорят, только в октябре».
Он не ошибся. В середине октября после сложных формальностей мы с Менашем покинули казарму, вырядившись в самые невероятные одежды. Мух должен был освободиться несколько позже.
Мы дали себе зарок не работать целый год после демобилизации. Мы так и не попали в ту великую мясорубку, ради которой покинули родные места, зато годичный опыт научил нас не придавать значения никаким дипломам и аттестатам. Поэтому ни Менаш, ни я не стали продолжать учение. Даже Меддур, также приехавший из Блиды, заявил, что не собирается возвращаться в школу, где он преподавал до мобилизации. Цель у нас была умеренная и вполне определенная: по утрам вставать когда вздумается, не страшась сигнала побудки; засыпать лишь после того, как веки начнут сами собою смыкаться; есть досыта; ходить гордо подняв голову, выпятив грудь и заложив руки в карманы; на улице не жаться к домам, боясь нарваться на офицера, который сразу догадается, что ты удрал с поста. Мы много раз повторяли: «Ничего не делать, ни о чем не думать. Только спать».