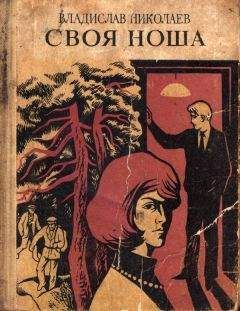Дрожащей рукой я нацарапал в записной книжке расписку, вырвал страницу, сунул Крапивину и, прихватив папку, почти бегом вылетел из дома на солнечный свет.
Я всего третий месяц работал в газете, не знал Татьяны и вообще еще не приобрел никаких знакомств в городе, просиживал допоздна в редакции, приглядывался, осваивался — вот в это время и заявились ко мне в отдел два новых гостя.
Они были примерно одних со мною лет. Тот, что вошел первым, — долговязый, узкоплечий, порывистый в движениях; другой, напротив, — низкорослый, широкий, словом, какой-то квадратный. Примечательным у него было и лицо — с вывернутыми толстыми губами, носатое.
— Эджин Ветров, — легко переломившись над столом и протянув холеную тонкой кости руку, назвался первый.
— Александр Мутовкин, — представился второй. Чтобы пожать мою руку, ему пришлось со стороны обойти стол.
Они сели: Эджин — в кресло, закинув ногу на ногу, Мутовкин — на мягкий широкий подлокотник. Сравнялись головами.
— Мы вас уже видели, — сказал Эджин. — На улице. Вы шли в синей шляпе. Кстати, вот и она, — кивнул он на вешалку, где висела шляпа. — И я сказал тогда: наконец-то в этом городе встретился человек, умеющий носить шляпу. Помнишь, Куб, я сказал: вот кто умеет носить шляпу!
— Да, — не совсем уверенно подтвердил Куб.
Я понимал, что Эджин льстит, расхваливая меня за шляпу, и Куб льстит, соглашаясь с ним, и понимал: делают они это из желания завоевать доверие самым легким способом. Но все равно мне было приятно. И вместо того, чтобы отшутиться, я смущенно произнеся
— Разве я ее как-то по-особенному ношу?
У Эджина дрогнули уголки губ, и он поспешно прикрыл веками свои большие глаза. Я не успел засечь их выражение, но убежден: в них светилось мелкое торжество. Клюнул, мол, на шляпу!
Ну, сейчас я их поставлю на свое место. Наверняка принесли какую-нибудь чепуху. И я кивнул на свернутые в трубку листочки писчей бумаги в руках у Куба.
— Показывайте, что у вас.
Куб протянул листы. Я небрежно развернул их и стал читать. «В село приехал цирк». Ага, значит, зарисовка. Посмотрим, посмотрим…
«На мягкую от пыли улицу въезжает голубой автобус, обклеенный разноцветными афишами. Невесть откуда появляются мальчишки и девчонки, шлепают босыми ногами по пыли, бегут за автобусом и орут, словно сорочата: «Цирк! Цирк! Цирк приехал!»
Автобус останавливается, из него выходят обыкновенные люди в обыкновенных городских костюмах. Мальчишки и девчонки разочарованы: «А где же клоун?»…
— Ну как? — озабоченно спросил Куб, не обладавший выдержкой своего товарища.
— Чувствуется, вы уже писали прежде.
— Мы Литературный институт в Москве закончили, — скромно признался Эджин.
— Имени Горького?
— Нет.
— Разве есть еще какой-то литературный институт?
Гости переглянулись, замялись, а Куб, густо покраснев, покаянно признался:
— Эдька не совсем точно выразился. Библиотечный…
Ага, попались, голубчики! Теперь-то я вас взыщу за шляпу!
— Библиотечный! Вот бы никогда не подумал, что там учатся парни.
— Литературу мы изучали по университетской программе, — самолюбиво произнес Эджин, покосившись на голубой с золоченым гербом ромбик на лацкане моего пиджака.
— Некуда было деться, — хмуро признался Куб. — Толкались и в литинститут. По конкурсу не прошли.
— А кем вы здесь работаете?
— Куб — директор областного Дома народного творчества, а я — директор методкабинета культпросветработы.
— Ого! Сразу после института — в директора! Редкий случай. Знаете, я сейчас же проставлю под фамилиями ваши громкие титулы. Зарисовка заиграет, да и в газете у нас это любят.
— Пожалуйста, не надо, — взмолился Куб, — мы равнодушны к титулам.
— А к чему неравнодушны?
— К литературе.
— Надеетесь, со временем ваши фамилии получат журналистскую или писательскую известность?
— Ради газеты мы охотно бы расстались со своими высокими должностями, — сказал Эджин.
— Давно вместе пишете?
— Пять лет, — ответил Эджин.
— С того дня, как познакомились, — улыбнулся Куб. — Познакомились мы с ним интересно. В институте я его сразу приметил. Длинный, щеголеватый: костюм с иголочки, рубашка шелковая, галстук тоненький. Подумал, вот хлыщ узкопленочный, надо набить ему как-нибудь морду! А тут Эдька сел, закинул ногу на ногу, вот так же, как сейчас, и я увидел у него на носке дыру, а сквозь нее — грязную черную пятку. Обрадовался — свой парень! Ударил по шее — и с той минуты мы с ним соавторы.
Куб хохотнул, а Эджин, недовольно взглянув на него, скинул на пол болтавшуюся в воздухе ногу.
— Веселые парни. Жаль — вдвоем пишете. В мой отдел нужен литсотрудник. Но штатным расписанием такой вариант не предусмотрен.
Эджин заторопился, встал.
— Очень, очень приятно, что познакомились… Зарисовочку-то скоро увидим в газете?
— На неделе, полагаю, увидите.
Оба по очереди пожали мне руку и направились к двери. Впереди — долговязый Эджин, следом — короткий квадратный Куб.
Не успел я выправить зарисовку — в кабинет бесшумно вплыла Манефа.
— Что за Пат с Паташоном плиходили? — миролюбиво картавя, спросила она.
— Это были Ильф и Петров.
— Да? Котолый из них Ильф.
— Маленький, наверно.
— Холошо пишут?
— Ничего. Можно печатать.
— А не площелыги они?
— Напротив: очень важные особы! Директора крупнейших областных учреждений!
— Не мистифицилуй, пожалуйста.
— Честное слово. Ильф — директор Дома народного творчества, Петров — директор методкабинета культпросветработы.
— Покажи, что они плинесли.
Я протянул листки: Манефа с профессиональной быстротой пробежала по ним глазами и, возвращая, сказала:
— Сдай сегодня. Закажу художнику лисунок. Поставлю в восклесный номел.
И пошла. Посреди комнаты повернула в мою сторону отягченную пышными золотистыми волосами голову:
— Плигласи их завтла ко мне.
— С превеликим удовольствием. — Я наклонился низко к столу, чтобы спрятать от Манефы неподобающую ухмылку, однако она ее заметила и сердито стукнула дверью.
В редакции все знали о ее пристрастии к молодым дарованиям. Она любила открывать и печатать их, причем печатать, нарушая всякую газетную субординацию. Материалы новоиспеченных талантов попадали к ней на стол, минуя отделы, она сама правила их и сразу же ставила в номер. К сожалению, больше месяца покровительствовать она не умела. Уставала, разочаровывалась, пугалась чего-нибудь, или просто появлялось новое дарование, и, забыв о старых привязанностях, она начинала лелеять его с прежней страстью. Этой чертой Манефа походила на некоторых именитых писателей, которые шумно и радушно поддерживают молодого литератора, пока он средне, ученически пишет, и отворачиваются от него, как только он чему-нибудь научится.
Я перепечатал на машинке зарисовку, отнес Манефе и стал собираться домой. Сипло задребезжал телефон. Я снял трубку.
— Эджин вас беспокоит. Эджин Ветров.
— Хотите что-нибудь исправить в зарисовке?
— Нет, — замялся Эджин и замолчал.
— В чем тогда дело?
— Не придете ли вы к нам сегодня на ужин? Жена борщ сварила. А у меня еще с Москвы бутылочка «Муската» сохранилась.
Вспомнив наставление Петра Евсеевича: не пей с кем попало, будь бдительным, — я отказался.
— Подождите одну минутку! — торопливо крикнул Эджин, и в ту же секунду в трубке решительный женский голос предупредил:
— Сейчас за вами зайдет Эдик. Вы непременно должны прийти к нам. Это говорит Лида, жена Эдика.
Она, верно, была убеждена, что уговорила меня, и, не дожидаясь ответа, положила трубку. Делать нечего надо идти.
Эджин — как и все мы в ту пору — снимал комнату в старом частном домике, однако обставлена она была уже вполне в современном духе: низкий чайный столик на тонких ножках, висячие книжные полки, мягкое чешское кресло, обтянутое бордовым плюшем.
— Из Москвы привезли, — кивнув на мебель, сказал Эджин. — А спинка кресла откидывается, и получается кровать. Так что мы с вами можем пить без опаски: есть на чем спать.
Лида высоким ростом и еще чем-то неуловимым походила на Эджина, и я подумал: верно говорят — супруги после нескольких лет совместной жизни становятся похожими друг на друга не только внутренне, но и внешне.
На столе, как и обещал Эджин, рядом с бутылкой «Муската» дымился борщ в эмалированной кастрюле. Золотистая этикетка на бутылке — в медалях с выставок. Много всего было и сверх обещанного: колбаса, икра, крабы, туруханская селедка, огурцы — аккуратно нарезанные, аккуратно разложенные по тарелкам. И еще пол-литра водки.