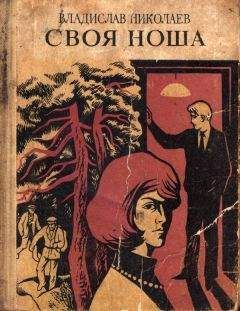Не было только Куба. Я почему-то полагал: обязательно Куба увижу у Эджина. Я даже думал, что соавторы вместе живут.
— Давай на «ты», — сказал Эджин, подняв рюмку с водкой.
— Давай, — согласился я.
— Плохой водки нет. Есть только хорошая и отличная, — неумело крякнув, произнес он.
Эту сентенцию, приписываемую одному загульному поэту, я уже слышал много раз. Эджину можно было придумать что-нибудь и самому.
Наступило молчание. Лида задумчиво рассматривала на свет рюмку с вином.
— Тебе в отдел правда нужен литсотрудник? — Эджин вдруг повернулся ко мне вместе со стулом.
— Правда.
— Возьми Куба. Талантливый парень. Горазд на всякую выдумку. Мы с ним вместе в заводской многотиражке работали. Такие материальчики выдавали— просто цимис!
Я заинтересованно слушал, и Эджин, ободрившись моим вниманием, доверенно положил руку мне на колено и продолжал:
— Только вот с семьей у Куба не все в порядке. Он ведь женат. Не совсем, правда, не расписан, но женат. Головой ручаюсь: у него это прочно, не шуры-муры какие-нибудь. Ее Валей зовут. Старше Куба. Но красивая, здорово сохранилась. Его старики считают: Валя — коварная соблазнительница, а Куб сам настоял, чтобы она ушла от прежнего мужа. Теперь старики как бы отреклись от Куба. Писем не пишут. Валя скоро приедет сюда… Надеюсь, у вас в редакции не ханжи сидят?
— Куб очень разбросанный, — сказала Лида, поглаживая пальцами рукав мужнина пиджака. — В голове тысяча идей, он за все враз хватается и ни одну не доводит до дела… Вам его придется перевоспитывать.
— Что ни говори, Куб— замечательный парень! — Для пущей убедительности Эджин даже вскочил со стула и всплеснул руками. — У нас слагали о нем легенды. Однажды его чуть из института не вышибли. Да, да, было и такое. Куба за что-то поперли с семинара. Он разозлился и с такой силой саданул дверью, что в аудитории со стены оборвалась с грохотом большая карта. Сбежалось начальство. Дерзость, хулиганство! Мы все — за Куба: не нарочно, случайно, шнурок уже истлел и порвался от толчка.
И это спасло Куба.
— Куб мне нравится, — сказал я и заметил, что слова мои произвели на хозяев неблагоприятное впечатление: Эджин растерянно заморгал глазами, а Лида скептически скривила губы.
Больше я не пил, как меня ни уговаривали. Я уже понял: это один из тех ужинов, за которые потом расплачиваешься собственной совестью.
Наутро, прежде чем пройти в свой кабинет, я заглянул к Манефе, где в этот час собирались почти все заведующие отделами, — обменяться новостями, забрать свежие гранки, попросить места для гвоздевой информации, потрепаться, наконец.
Манефа, не ответив на приветствие, сунула в мою руку какую-то рукопись и сухо сказала:
— Выбрось в корзину.
Манефа не картавила. Значит — гневалась. Я развернул рукопись, прочитал: «В село приехал цирк».
— В чем дело?
— Я тебе сразу сказала: твой Ильф и Петров — прощелыги.
— Они — директора!
— Они — прощелыги! Сегодня их зарисовку прочитали по радио.
— Вы, может быть, путаете?
— Ничего не путаю. Собственными ушами слышала: в безлюдную улицу въехал обклеенный разноцветными афишами автобус, мальчишки и девчонки кричали: «Цирк», а потом гроздьями повисли на деревьях…
В кабинете Манефы торчал Петр Евсеевич, приходивший на работу одним из первых. Он стоял у окна и, по привычке сцепив короткопалые руки на круглом животе, прислушивался к нашему разговору. Уши у него навострились топориком.
— Что-то такое про цирк слышал и я, — встрял он в разговор. — Ты потерял бдительность, Козлов. Это я принципиально говорю. Принципиально! — И, расцепив руки, поднял вверх указующий перст.
— Сейчас сам во всем разберусь, — пошел я к себе, однако у двери обернулся и полюбопытствовал ехидно: — Ну как, приглашать их теперь к вам или нет?
— Боже упаси! — простонала Манефа.
В отделе раздеваться даже не стал — сразу за телефон. Трубку взял Куб. Голос по телефону у него гудел басовито, уверенно, начальственно, и если бы накануне я не познакомился с самим, то сейчас, наверно, представил бы его этаким кабинетным богатырем, под которым скрипят, расползаются казенные стулья.
— Что же вы, голубчики, подвели меня?
— То есть как так подвели?
— Хватит притворяться. Ты же знаешь, о чем я говорю.
— Ничего не знаю, — в голосе появились встревоженные, совсем не начальственные нотки.
— Может, чужой дядя отнес вашу зарисовку на радио?
— Куда?
— На радио. А сегодня утром передали ее. Несколько человек из редакции слышали.
— Честное слово, ничего не знаю! — выкрикнул Куб. — Впрочем, подождите. — И трубку на этом конце провода или прикрыли ладонью, или отложили в сторону; в глухом отдалении звучали спорящие голоса, но я не мог разобрать ни одного слова. Потом гаркнуло в ухо: — Алло! Вы здесь? Мы сейчас придем.
Я ждал обоих — и Эджина и Куба, но пришел один Куб, приниженный, виноватый. С кончика толстого носа свисала капелька пота. Он снял очки и стал их протирать измятым носовым платком. Близорукие серые глаза слепо щурились, и мне помимо воли стало жалко парня. Я примирительно спросил:
— Вы с приятелем имеете хоть малейшее представление о журналистской этике?
— Да, да.
— Послушай, ты и в самом деле про радио ничего не знал?
— Нет. То есть знал, — замялся Куб.
— А по-моему, ты врешь. Зарисовку на радио отнес один Эджин. Может, даже не предупредив тебя. С двух мест гонорар намеревался выдоить. Так?
Куб испуганно дернул головой, надел очки и молча уставился на меня.
— Хороши друзья-соавторы! Порознь-то вы хоть что-нибудь пишете?
— Я пишу, — оскорбленно буркнул Куб. — Стихи…
— Вот как! Стихи! А Эджин?
— Прозу.
— Ну, ясно… Ты в самом деле хочешь в газете работать?
— А то как?
— Сможешь по нашей командировке съездить в район и написать очерк?
— Если это не шутка, — недоверчиво блеснул очками Куб.
— Приходи после обеда. Обговорим тему, и получишь в бухгалтерии командировочные. Очерк должен быть совершенным. На уровне «Известий». Иначе дело не выгорит.
— А Эдька?
— Что Эдька? — не понял я.
— Он тоже рвется в газету.
— А пошел он подальше. Получи сейчас такое предложение твой Эдька, он бы и не вспомнил о тебе.
… Вот так я обрел себе литсотрудника и друга. А друг, говаривал кто-то из классиков, все равно что лохань, в которую время от времени сливают помои. После встречи с Крапивиным у меня тоже возникла потребность излиться, и, прилетев в город, я поехал не домой, а прямо в редакцию.
Куб вдохновенно творил. Без пиджака, в голубых подтяжках, косматый, весь расхристанный. На столе перед ним — ворох исписанной бумаги. Отдельные листки валялись на полу… Впрочем, когда все это перепечатается на машинке, наберется не так уж много — две-три странички. Он и за столом махал, как маляр, не жалел бумаги.
Через раскрытую балконную дверь тянул сквознячок, пошумливал разбросанными листками.
Куб поднял голову и с минуту смотрел на меня из-под косм пустыми отрешенными глазами. Я снял шляпу, повесил, и тогда только он пришел в себя. Началось знакомое, привычное: выкатился из-за стола, ухватил обеими руками мою руку и, будто мы в самом деле не виделись лет сто, радостно тряс ее, заглядывал в глаза, сыпал словами, одновременно спрашивая и рассказывая о себе:
— Ну как? Что еще привез?.. Репортаж твой загнали в набор… Я тоже тут не спал! Видел? На две колонки. А вчера редактор подкинул новую тему…
— Видел. И приветик тебе привез от «уганских бюрократов»! Крапивин шлет.
— Рассвирепел?
— Похоже.
— Вот сукин сын!
— Еще не известно…
— Неужто я ошибся? Но я же…
— Полистай-ка вот эти бумаги. — И я протянул скоросшиватель.
Куб оторвался от меня и бросился со скоросшивателем снова к столу. Я вынул из тумбочки казенное полотенце и направился в умывальник. Там закрылся на задвижку, разболокся до пояса и, не спеша, стал сдирать с себя дорожную пыль. На душе было препогано, не так, как бывает с похмелья, а еще хуже. Вряд ли и Куб чем-нибудь поможет. Горячая голова! Встанет горой за меня, за Татьяну, придумает какой-нибудь, выход, но это будет совершенно не то, не то…
Ну да, как и предполагал, Куб уже весь кипел благородным негодованием:
— Ни одному словечку не верю! С первого взгляда ясно — липа! Посмотри, как ухожены эти записочки: скреплены, пронумерованы, заверены… Так лишь завзятые кляузники работают!.. Послушай, отдай-ка мне их, всыплю этому прохвосту по первое число!
— Не горячись, Саня. Дело не простое.
— Куда уж проще: во что бы то ни стало намерен примазаться к чужому открытию.
— Ну, Саня, так не пойдет. А вдруг это Татьяна?
— Не верю!