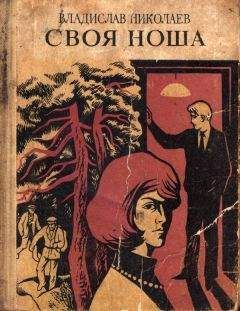— Не верю!
— Да и я не верю. Однако сам я от нее об этой сволочной истории не слышал ни разу.
— Фу ты черт! — смутился Куб. — Зачем нам базар с тобой разводить? Поговори с Танькой. Она тебе все расскажет как на духу. Конечно же! А то даже как-то неприлично получается — за ее спиной.
— Ладно, — согласился я.
В это время задребезжал телефон.
Я подошел к столу, снял трубку и услышал перепуганный женский голос:
— Витя?
— Да.
— Ваша жена в лапах моего мужа! — голос истерично всхлипнул. — Бегите скорее домой!
— В каких лапах? Кто говорит? — крикнул я, чувствуя, как самого меня охватывает паника. Но на другом конце трубку уже бросили.
«Кто звонил? Чей муж? Разве Татьяна дома? В такое время она всегда бывает в институте. Что за идиотские шуточки!» — ломал я голову.
— У тебя неприятности? — спросил Куб, озабоченна вглядываясь в мое лицо.
— Ерунда какая-то, — сказал я, однако тут же засобирался домой. — Сегодня, наверно, больше не приду.
— Конечно, после командировки надо отдохнуть.
Из кабинета я вышел не торопясь, но уже по коридору припустил бегом, и с каждым шагом все сильнее овладевал мной панический страх, лоб покрылся холодной испариной: что там?
Такси на улице не было. Автобус ускользнул перед самым носом. Следующий подойдет минут через десять. В моем направлении катил грузовик. Я спрыгнул с тротуара и поднял руку.
Грузовик затормозил, высунулся из окошка лупоглазый шофер.
— Подвези! Вот как нужно! — взмолился я и провел рукой по горлу.
Тополь у нашего дома уже убрали, опилки смели. В палисаднике, словно вставные зубы, белели новые доски. Я заскочил в подъезд и остолбенел. Дверь в квартиру была открыта. Молнией сверкнуло давнее воспоминание: целый день мы провели на людях, истомились друг по другу, к дому подъехали в темноте, я поднял Татьяну на руки, внес в квартиру, а когда мы через час остыли, успокоились и я пошел закурить — все двери вот так же были настежь: в коридор, на лестницу.
Кто там теперь? Баженов? Я подумал о старике Баженове, хотя и не укладывалось это в голове.
В гостиной на столе валялась Татьянина сумочка. Из спальной доносился шорох. На миг испугавшись и того, что мог увидеть, и своей жуткой решимости, я шагнул туда.
Татьяна стояла перед письменным столом и, шевеля губами, пересчитывала деньги. Вот так просто стояла и перебирала пальцами новенькие рубли — я не верил своим глазам. Потом она вздрогнула и повернулась ко мне.
— Ой, как ты напугал!
— Почему дверь открыта?
— Забежала на минутку за деньгами. Надо костюм выкупить, с портнихой договорилась.
Я без сил опустился на кровать. Меж лопатками ручьем бежал холодный пот.
— На тебе лица совсем нет…
— Укачало, наверно.
— Слабак, — поверила Татьяна. — Не сходишь ли со мной к портнихе? Может, что не так — со стороны виднее. А в этом костюме мне все-таки защиту держать.
— Подожди немного.
Я поднялся, вышел на слабых ногах в коридор и там, презирая себя за пережитый страх и еще не рассеявшуюся подозрительность, заглянул в кладовку, кухню, ванную — нигде никого не было. Ах, что за гад звонил! За такие штучки голову оторвать мало!
Но уже через пять минут я совсем успокоился. И не просто успокоился, а даже повеселел: после всего пережитого та, другая неприятность, заключенная в папке, показалась сущей безделицей. Вот так — клин клином вышибают!
Портниха у Татьяны — редкостная. В прошлом по молве сама первостепенная красавица, теперь она и шила только на красивых женщин. Какой-нибудь толстушке у нее нечего было и делать — самую выгодную работу отклонит. К Татьяне же сама однажды подошла на улице, предложила сшить платье: есть-де один интересный фасончик, в самый раз по фигуре…
Иссиня-черный, в талию, с узким вырезом на груди, костюмчик был одновременно и строг и вполне элегантен — как раз то, что требовал момент. Я так и сказал и еще добавил:
— Никто и не подумает, что ты еще не защитила диссертацию.
Портниха, сложив на груди руки, откровенно любовалась своим, творением. В конце концов и Татьяна согласилась — лучше некуда!
Потом у Татьяны весь день было хорошее настроение. Мне совершенно не хотелось его портить, и разговор о Крапивине я тянул до самого последнего момента. Уже Маринка посапывала в своей кроватке, уже Татьяна готовилась ко сну, накручивая бигуди, когда я, наконец, решился. С поднятыми к голове руками Татьяна так и застыла, замерла на стуле.
— Почему ты сразу не сказал? — после долгого молчания с укором спросила она. — Я ведь почувствовала: не с хорошим приехал. Еще когда только вошел… Ах, что ему от меня надо? Диссертацию зарезать — не выйдет! Месторождение отобрать — тоже не выйдет! Он на него не имеет никакого права! Палец о палец не ударил! Я всем могу доказать… Баба какая-то! И штучки бабские — жалобы, письма, доносы. А теперь вот в редакцию…
— Мне он тоже не понравился, — вставил я.
— Что вы с его досье будете делать? — не слушая меня, спросила Татьяна.
— Разбираться…
— Ах еще и разбираться, проверять! Значит, ты мне нисколько не веришь!
— Ты передергиваешь… Я же сказал: Крапивин мне не понравился, внушают подозрение и его претензии. Помоги нам восстановить картину открытия, и мы ему ответим полным голосом. Через газету… Самому, правда, неудобно браться за это дело, но Куб так и рвется в бой.
— Вот как! Ты уже и Куба успел посвятить! Очень мило!
— Куб — наш друг.
— У нас много друзей, и всем, значит, болтать… А знаешь, какая бывает реакция у мещан: нет дыма без огня, если уж пошли письма, дело — темное, нечистое.
— Куб не мещанин.
— Знаю я вас… Ты ведь тоже не веришь. Тоже сомневаешься. Тоже считаешь: нет дыма без огня. — Татьяна вдруг всхлипнула и ожесточенным тоном продолжала: — Иначе бы и папку швырнул в лицо этому негодяю и Кубу бы ничего не рассказывал. Может, завидуешь? Как и другие, хочешь погубить меня?
— Танька, милая, успокойся, — растерянно проговорил я, подходя вплотную к жене.
Я попытался погладить ее по волосам, но она с силой оттолкнула мою руку и крикнула:
— Не прикасайся… Ненавижу!
Потом сорвала с кровати верхнее одеяло, схватила подушку, вышвырнула их в другую комнату. Значит, спать мне на диване, в одиночку.
До полночи лежал я с открытыми глазами, клял себя, что так неосторожно внес в Татьянину жизнь смуту и тревогу. Да еще когда — перед самой защитой. Тоже нашелся следователь! — ругался я сквозь зубы.
В окно лился голубоватый свет. В спальной стояла тишина. Уже за полночь вдруг скрипнула дверь. Я повел глазами и увидел Татьяну; кожа ее отливала голубизной, а сама она вся походила на длинную прекрасную рыбу, плывущую в голубой воде. Я подвинулся к стенке. Татьяна скользнула под одеяло, прижалась к моему лицу, прошептала, дрожа:
— Мне страшно, Витя… Страшно!
Эту ночь я припрятал в копилку, где хранились самые прекрасные мгновения моей жизни, — что-то из детства, что-то из студенческой юности и очень многое из того времени, которое я прожил вместе с Татьяной.
«К черту Крапивина! К черту! Завтра же отошлю ему папку!» — засыпая, подумал я.
Иван Гордеевич склонился над крапивинскими документами и, пока не дочитал их до конца, ни разу не поднял головы. Я смотрел на серый от седины ежик волос, на желтую металлическую оправу очков и с беспокойством гадал — какое же впечатление они произведут на редактора.
Для меня Иван Гордеевич был воплощением здравого смысла. Не того здравого смысла, который осторожничает, лукавит, обходит острые углы, а того, который докапывается до сути вещей и явлений самыми простыми средствами. И если он сейчас поверит бумажкам, значит, им стоит верить и Татьяны дела плохи.
Когда я впервые увидел Ивана Гордеевича, то растерянно подумал: какой же это редактор? Темным крестьянским лицом, очками в немодной оправе, дешевым костюмом, полосатой рубашкой он походил на кого угодно, только не на редактора областной газеты, в которой — успел обратить я внимание, перелистав подшивку, — выступали и писатели, и артисты, и лауреаты. Как же он, такой невидный и простоватый, разговаривает с ними? Я был растерян, сбит с толку. Только позднее понял: причиной тому был не столько сам Иван Гордеевич, сколько мое школярское воображение, воспитанное в университете «от» и «до»: артист — непременно с черной бабочкой под выбритым подбородком, капитан — с шевронами на рукавах, рабочий — в замасленной кепочке, а человек с обличьем Ивана Гордеевича по этим несложным канонам мог только быть председателем колхоза или бухгалтером, и никем другим… Скоро мне пришлось расстаться с подобными представлениями о людях. Благословенна жизнь, развеивающая по ветру мертвые семена учения!