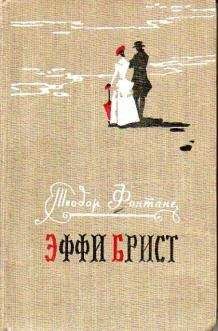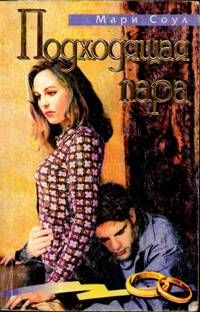— Они должны были проехать прямо мимо твоего дома. — Кэтлин обернулась, когда учительница истории вышла из класса. Девочки захихикали.
— Наверное, — пожала я плечами.
Дом милосердия — протестантский епископальный дом для сбившихся с пути девушек — находился недалеко от нашего дома. Когда я была младше, он занимал в моих историях значительное место, но два года назад превратился в настоящую угрозу: на танцах заметили, как мальчик положил ладонь Луэлле на спину, несколько ниже того места, где она должна была располагаться. Папа пришел в ярость. Даже чары Луэллы не смогли его успокоить. Он заявил, что не пожалеет услать ее, если она выросла в «такую» девицу. Луэлла клялась, что она ничего не заметила, что думала, будто рука лежит там, где полагается.
— Что можно почувствовать сквозь корсет?! — рыдала она.
Мама тогда признала, что в этом есть смысл.
Я не думала о том случае до самого исчезновения Сьюзи Трейнер.
После этого червячок вины, копошившийся во мне по субботам, когда я целовала маму с папой и отправлялась к цыганам, подрос. Юноши в наших проделках не участвовали, но я стала волноваться из-за наших эскапад. Что если нас поймают и папа отошлет нас? Это не один крошечный проступок — мы лгали целый месяц и оправдаться вряд ли сумеем.
К тому же я беспокоилась из-за экзаменов, до которых оставалось совсем немного времени. Большинство девочек из заведения мисс Чапин не думали об оценках. Скорее, их интересовало, кто из выпускниц первой заведет четверых детей. Я ежилась от этой мысли. Луэлла говорила, что когда-нибудь у нее будет один ребенок, но никак не четверо. До той поры она собиралась обзавестись несколькими возлюбленными. Я была уверена, что возлюбленных у меня никаких не будет, но совсем не хотела стряпать, вести счета и управлять домом. Я мечтала поступить в колледж Брин-Мор и стать писательницей. Это означало, что я должна хорошо успевать по всем предметам. Я сосредоточилась на латыни и французском, писала рассказы и эссе, наблюдала, как клетки, словно живые витражи, двигаются под микроскопом, и прилежно заучивала периодическую таблицу и разнообразные классификации.
После знакомства с цыганами занятия ушли на второй план. Я хорошо шла по английскому, но математика и естественные науки страдали, стоило мне потерять концентрацию. Когда я сказала об этом Луэлле, сестра не приняла мои слова близко к сердцу. Ее никогда особенно не интересовали уроки, а в эту весну и подавно. Я указала на это, но она лишь пожала плечами. Она даже начала жаловаться Иванову, что у нее ноют ступни, и пропускать уроки балета.
Потом все изменилось к худшему.
Папа стал заезжать за нами в школу на своем алом эмпайре с опущенным верхом и отвозить на ланч к «Дельмонико». Это вызывало зависть одноклассниц. Девочки толпились на ступеньках особняка в георгианском стиле, в котором располагалась школа, пока мы устраивались в машине, а папа покуривал сигарету с золотым ободком. Котелок у него был щегольски сдвинут набок, а остроносые туфли до того начищены, что в них отражался руль.
В любых других обстоятельствах я была бы в восторге от такого отцовского внимания. Но насколько ужасно было получать его, когда меня терзало чувство вины, и я не могла испытывать удовольствия. Такие ланчи у нас заведены не были, и всю первую неделю я торопливо поглощала изысканные блюда, ожидая, когда же он начнет разговор о цыганах. Может быть, это такое особое наказание — показать нам, что мы могли бы иметь, а потом забрать всё?
Три долгие недели я наблюдала, как папа откидывается на спинку стула, закуривает и разглядывает зал, привлекая всеобщее внимание. А потом поняла, что это все не имеет никакого отношения к нам с Луэллой. Мне и в голову не приходило, что ослепительная женщина, мимо которой мы проходили каждый день, которая обедала в одиночестве и вела себя скорее как мужчина, и была этой причиной. Она казалась потрясающей. Уверенная в себе, как никто из тех женщин, кого я до сих пор встречала. Папа приподнимал шляпу и улыбался, женщина кивала и улыбалась в ответ. Лицо у нее было круглое и чувственное, а губы — ярко-алые.
Я все хотела поговорить о ней с Луэллой, хотя бы о неестественно красных губах, но почему-то забывала. А однажды в мае, когда мы ели и наслаждались теплым днем, женщина вдруг встала и прошла к нам через весь зал. Мы с Луэллой уставились на нее. Ни на одном ужине или приеме, где мы бывали, нам не приходилось видеть женщин, которые были бы так одеты. Она не походила на маму, цеплявшуюся за Викторианскую эпоху, или на школьницу, подражавшую картинке из модного журнала. Это и была картинка из модного журнала: новая женщина 1913 года. Женщина, о каких мы только читали: смелая, уверенная в себе, отбросившая условности. Под нитями жемчуга и сапфиров на ней было телесного цвета платье из пудесуа, такое тесное, что выглядело второй кожей. Эффект поражал воображение.
Папа смотрел на нее как-то слишком фамильярно.
— Эмори Тилдон! — Ее голос, высокий и беззаботный, наполнил зал. — Я так и знала, что это вы. А эти очаровательные создания, должно быть, ваши дочери?
Она поглядела на нас с преувеличенным интересом. Остальные звуки в обеденном зале как будто затихли.
Папа встал. Поддернул манжеты, откашлялся. Его волнение меня напугало.
— Да, это мои девочки. Эффи, Луэлла, это Инес Милхолланд. Ее отец — редактор, — добавил он, будто это что-то объясняло.
Инес Милхолланд? Мы с Луэллой переглянулись. Эту женщину мы видели на обложке «Журнала для женщин» и «Новостей суфражизма».
От меня никто не ждал разговоров, но на Луэллу папа взглянул строго, чтобы она по меньшей мере не грубила. Но сестра только смотрела, удавленная едва ли не впервые в жизни.
Мисс Милхолланд наша неловкость не задела.
— Очень рада встрече с вами обеими. — Переведя взгляд бархатных карих глаз на папу, она улыбнулась шире. — Может быть, вы покурите со мной? Здесь очень жарко, мне хотелось бы подышать воздухом.
Она чуть приподняла руку, и тонкая ткань натянулась на бедрах. Папа немедленно подхватил ее под руку, и они вышли.
Луэлла бросила вилку на тарелку.
— И откуда папа ее знает?! — воскликнула она, ехидно улыбаясь. — Она гораздо современнее, чем то, что он одобряет. Пошли еще на нее посмотрим.
Она вытащила меня из-за стола, и мы выбежали из ресторана на яркую, шумную улицу. Мы не сразу заметили папу, который подсаживал Инес в открытое такси. Мимо нас прошла пара, и я почувствовала удушливо-сладкий запах гардении. Луэлла рванулась вперед и тут же застыла на месте — папа наклонился и поцеловал ярко-алые губы Инес Милхолланд. Поцелуй длился целую вечность, и мы не могли пошевелиться.
Луэлла развернулась. С лица ее схлынула краска, а глаза превратились в крошечные гневные щелочки. Несмотря на свою бунтарскую натуру, Луэлла принадлежала к тому же миру, что и отец. Она шалила, но лишь потому что считала это безопасным. Мы обе верили, что наш папа — принципиальный и щепетильный человек, что он приструнит ее, если она зайдет слишком далеко, как сделал бы любой хороший родитель. Ей это могло не нравиться, но она уважала естественный порядок вещей.
Когда этот порядок рухнул, она разозлилась по-настоящему.
Она втолкнула меня назад в зал и усадила за стол. Мы сидели молча. От звона приборов и голосов вокруг у меня по коже пошли мурашки. Картофель показался рыхлым, а подливка комковатой. Я прикусила щеку изнутри так, что пошла кровь. Я хотела придумать для папы оправдание, куда-то деть эту женщину, но не могла.
Луэлла водрузила локти на стол и уставилась на граненую солонку так внимательно, будто хотела пересчитать все крупинки соли. Ее молчание меня пугало. Ей всегда было что сказать.
Папа вернулся радостный и спокойный, как будто ничего не произошло. Он уселся за стол и закинул руку на спинку стула с видом крайнего превосходства. Я искала красные следы у него на губах, но ничего не увидела.
Мы с Луэллой так никогда и не обсудили этого, но я знала, что сестра не простила именно его высокомерия, а вовсе не поцелуя. Если бы он был нервным, дерганым, испуганным, мы бы убедили себя, что мораль не пострадала. Страсть ослепила его. Но он вовсе не выглядел подавленным. После греховной встречи с женщиной отец оставался веселым, добродушным и гордым.