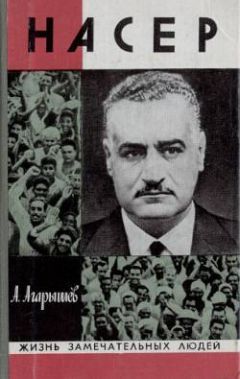Ей привиделась небесная синева, в которой, подобно стаям аистов, пролетающих над Ханааном по пути с севера в Египет, кружились жуткие демоны. Они были голыми и волосатыми. И очень похожими друг на друга. И на принца Шхема.
Дина твердо решила – она не побежит к окну. Чтобы наяву там вновь увидеть бесконечную ночь без единого огонька? Она не выдержит этого зрелища!
Не поднимаясь с овечьей шкуры, она бросила взгляд в сторону узкого прямоугольного окна. Ей показалось, будто тьму время от времени окрашивают в рыжий цвет отблески каких-то сполохов. Нет, нет и нет! Она не сдвинется с места. Хватит того, что ей слышится то, чего нет. Верить видениям она просто отказывается.
Ну вот! Шаги и крики на дворцовой лестнице. За дверью – испуганный голос домоправительницы: «Сейчас! Я открою!» Даже если пришли убивать ее – это все равно лучше, чем жизнь с принцем! Ключ заскрежетал в двери. Песнь ключа! Гимн ключа! Псалом ключа! Ужас всего, что приключилось с нею за прошедшую неделю, начался на шхемском базаре со звуков флейты, кинора и бубна – будь они прокляты, эти звуки! – а заканчивается в темной зале скрежетом ключа – да будет он благословен!
Дверь распахнулась. В глаза ударил яркий свет факела. Его держал обеими руками двенадцатилетний Емуэль, любимец и первый помощник Шимона и Леви. По левую руку от него стояла домоправительница. Губы у нее дрожали. Вот бы сейчас на нее посмотрела Адина, а потом постаралась передразнить. Забавно бы получилось. Справа возвышался Леви. На нем, как и на Емуэле, была шерстяная шапочка и серый балахон, препоясанный черным кожаным поясом, из-за которого торчал длинный костяной нож в кожаных ножнах. Он подошел к ней, сидящей на полу, нежно провел рукой по волосам и чуть дрогнувшим голосом произнес: «Сестренка, пойдем домой!»
* * *
Четыре месяца прошло с тех пор, как Шарру, спасаясь от рук сынов Яакова, попал в руки вавилонских купцов, чей караван возвращался из Египта. Позади путешествие со связанными руками и ногами, с телом, переброшенным, точно куль, через сафьяновое седло – вот ад-то был! Позади помост на невольничьем рынке в Уре Халдейском, расположенный возле четырехгранной угловой башни, у самой стены. Когда-то из этого Ура дедушка с бабушкой Шарру потрусили вслед за Аврамом в никуда, обернувшееся землей Ханаанской. Вовек не забудет Шарру этот помост, помост унижения. Больше всего ранил душу толстый эламитянин, который, проверяя, хорошие ли зубы у его будущей покупки, кривил пухлую толстогубую рожу, экое, дескать, зловоние изо рта. Посмотреть бы, какое бы из его пасти вырывалось благовоние после двух недель на похлебке из отрубей. А потом было обнесенное колоннами поместье, куда увез его эламитянин, оказавшийся даже не управляющим, а помощником управляющего. Поместье было с колоннами, а спать Шарру положили на дерюгу.
Затем было бегство, погоня, копье, которое преследователь ночью, пытаясь нащупать беглеца в высокой густой траве, воткнул ему прямо в бедро. И не застонал Шарру, только зубы стиснул. А тот, вынув копье, даже не заметил, что наконечник весь в крови, а может, потом, при свете факела, все-таки разглядел кровь и решил, что раз не было ни звука, значит, копье вошло точно в сердце, и нечего бегать впотьмах, искать труп, пусть лежит. А Шарру шел всю ночь, истекая кровью. Наутро пришел в саманный домик к старухе-халдейке, и та заклинаниями кровь остановила, травами воспаление вылечила. Но потом потребовала, чтобы Шарру в отработку лечения стал ее наложником. Шарру ночью сбежал и двинулся в родной Шхем. Ночевал на покрытой кочками земле или в пещерах, питался ягодами, плодами рожковых деревьев, иногда убивал даманов – безухих горных кроликов с быстрыми живыми глазами на улыбающихся мордочках. Ставить силки он не умел, но охотился на зверьков с самодельными дротиками или поражал их камнем из самодельной пращи. Однажды он точно сбросил глыбу прямо на даманчика, тот издал вопль, который Шарру счел предсмертным. Глыба покатилась дальше вниз, а окровавленное животное осталось лежать на остром сером камне. Царапая босые ноги о колючки, торчащие из щелей между камнями, беглец спустился и беззаботно взял за лапы добычу, которая тут же вцепилась ему в руку и жерновами челюстей раздробила палец.
Началось нагноение, и Шарру, уже умирая, буквально дополз до ближайших селений в верхнем Башане, где знахарь за несколько дней поставил его на ноги, а потом отвел к судье, и тот постановил, что в уплату за лечение больной обязан полгода работать на принадлежащем знахарю ячменном поле. Плохо же они знали Шарру, если могли предположить, что тот покорно подчинится приговору суда. Не прошло и трех дней, как он шагал по Башанскому плато, а на утро четвертого дня перед ним распахнулся туманный Кинерет в окружении скалистых гор. Погони не было, но в долине Иордана жирным бегемотом на него навалилась тяжелая жара. Он нашел себе успокоение под развесистой смоковницей на самом берегу реки, так что ноги его покоились в мутной и недостаточно прохладной воде. Там он и проспал до темноты. А когда ночью двинулся в путь, то первым, кого он увидел в камышах при свете луны, был огромный лев, к счастью, не обративший на него внимания, поскольку был слишком занят украденной где-то овцой, которую торжественно тащил в зубах. Лунный луч скользнул по морде несчастной овцы, и Шарру показалось, что он прочитал в ее остекленевших глазах боль и удивление. Что же держало его все эти месяцы? Что помогало выжить? Что не дало повеситься в Эламе? Что гнало в дорогу в Башане? Какая незримая сила хранила его в пути? Только не Баал и не Иштар. Они хороши были во время экстаза при жертвоприношении, ритуальных плясках и интенсивном общении с храмовыми жрицами. Из беды они не выручали. Так кто же выручал? Неужели женщина?
Очень странно... Он был охранником самого принца, ему покорялись жены и дочки богатейших людей в городе, не говоря уж о заезжих торговках, быстро смекавших, что надо сделать, чтобы наглый молодой охранник прекратил придираться на рынке. Живя в Шхеме, он и не думал обращать внимания на Адину, служанку во дворце принца, а обнаружив, что она тайком вздыхает по красавцу в кожаных сандалиях и с лисьим хвостом на плече, переспал с ней и тут же выкинул из головы. А Адина продолжала по нему сохнуть. Но в первую же ночь, когда он, переброшенный через седло, с руками, привязанными к торсу, беспомощно бился лбом и носом о вонючий шершавый бок верблюда, ему вдруг в полузабытьи привиделась она, в черной пене локонов, со стройными ногами, с узкими бедрами, с влюбленными взглядами, которые она некогда на него бросала, и он почувствовал, как сквозь десятки полетов стрелы, разделяющие их, вопреки каравану, уносящему его все дальше и дальше, некая живительная сила, струясь по черному воздуху, перетекает в него, становясь той путеводной нитью, что рано или поздно вытянет его из любой передряги и вернет в объятия этой тихой красавицы. Потом уже, когда он ворочал глыбы, чиня стены в эламском поместье, пришла ему в голову мысль, что, может быть, боги специально отправили его в страшное странствие, чтобы он разобрался в самом себе и понял – никого у него нет ни в Этом мире, ни в Следующем, кроме маленькой Адины. И когда копье преследователя вошло к нему в бедро, он стиснул зубы и сдержал стон, потому что знал – Адина ждет, ее ожидания нельзя обмануть.
И вот он в Шхеме. Он идет по пустым обугленным улицам, перешагивая через обнаженные мужские трупы. Ветер носит по улицам какие-то обрывки шерсти. В опустевших каменных домах шуршат крысы. За ними гоняются одичавшие собаки. Улицы, некогда выглядевшие столь нарядно, теперь тусклы. Он заходит в дом, где когда-то жил. Вот отец. Шарру не плачет. Он никогда не любил отца. Строго говоря, он никого в этом мире не любит... кроме Адины. Почему? Шарру впервые в жизни задает себе этот вопрос и тут же сам находит на него ответ. Родителей он не любил потому, что знал, что когда-нибудь их переживет. Если он сейчас привяжется к ним, рассуждал он когда-то, да нет, не рассуждал, а чувствовал – если он сейчас привяжется с ним, то потом, когда их немые тела внесут в пещеру-склеп, одну из бесчисленных пещер, чернеющих на противоположном склоне Шхемской долины, и вход завалят большим камнем, тогда ему будет очень больно. А зачем чтобы было больно? Лучше всегда держать душу в прохладце, тогда и прощание будет не таким тяжелым. Он смотрит в остекленевшие глаза отца. В них застыли боль и удивление – точь-в-точь, как у той овцы в Иорданской долине. В сущности, он и был овцой, овцой, возомнившей себя волком, одним из стаи волков. И Шарру постигла бы та же участь, если бы Иштар с Мардуком не подкинули ему тогда в сандалию спасительный камушек. Интересно, куда делась мать? Братьев и сестер у него не было – жители Шхема старались не обременять себя обилием детей.
Ах, как весело жил город Шхем! Ах, каким тяжелым оказалось похмелье! При этом, проходя по городу, он не увидел ни одного женского или детского трупа. Шарру прошибает пот. Только сейчас он понимает, что стал свидетелем чуда – за четыре месяца в жарком климате ни один из трупов не разложился – в городе нет никакого зловония. Нетленные тела лежат, как лежали, и, если бы мальчишки из Цриды не рассказали ему, как и, главное, когда было дело, он подумал бы, что резня произошла сегодня утром. Кто сотворил такое чудо? Баал? Иштар? Или Тот Главный, верой в которого Аврам некогда поделился с прадедом Шарру? Кому принести жертву? И какую жертву? Ни коз, ни овец нет – всех сыны Яакова угнали. Вокруг, правда, бродят собаки, но он никогда не слышал, чтобы собак приносили в жертву. Спросить бы Беора, жреца... Он видел Беора, когда шел сюда. Жрец лежал у порога собственного дома – должно быть, пытался убежать от злодеев. И судя по всему, в последнее мгновенье жизни у него после обрезания открылось кровотечение. Так и застыл он на земле, голый, в последнем извиве, орошая землю двумя лужицами крови – одной из перерезанного горла, другою оттуда, снизу. Так и не справившись с навалившимся на него чудом – первым и, быть может, единственным проявлением Сверхъестественного в его жизни, Шарру растерянно разводит руками и встает с края отцовского ложа. Нет, он не будет никого хоронить. Всех не похоронишь, а одного отца... Чем его отец лучше остальных пятисот девяноста девяти отцов, братьев, мужей и сыновей?