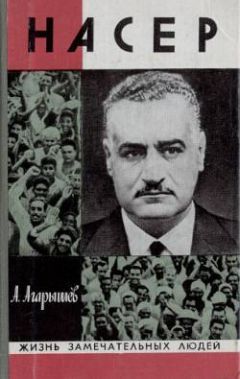Их осеняла усталость, и время от времени то один, то другой останавливался, и тень Облака, ни на локоть не отстававшего от строя израильтян, уплывала вперед, а он оставался сзади, отстав лишь на одно мгновение, чтобы перевести дух. Лишь на одно мгновение. Лишь на одно. И тотчас же – «вь-е-е-е-е-е»! Стрела, выпущенная одним из лучников Амалека, буквально дышащих в затылок израильтянам, впивалась усталому в спину, и рот его наполнялся кровью, которая вязким ручейком выплескивалась из уголка губ на ворот шерстяной рубахи. Одного из них таким вот выстрелом прикончил Акки. Но радости это ему не доставило. Все равно он чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Пальмы в Рефидиме были какие-то толстые, скалы – крутые. Правда, финики – сочные и сладкие. И много, много, много солнца – так много, что равнина казалась бесконечной. Здесь хватало места и для армии Амалека, и для еврейской армии. Родные края Амалека остались далеко, за сорок парсот{Около150 км.}. Но как горели ненавистью глубоко посаженные глаза этих воинов! Как блестели на солнце смуглые, почти обнаженные тела, перетянутые золотистыми лентами! Как сверкали в руках их мечи, по форме напоминающие сильно удлиненные наконечники стрел! Воинам Амалека доспехи были не нужны. Они пришли сюда не защищать свои жизни, а отбирать чужие. Они не боялись смерти. А он, Акки, боялся. Он не был амалекитянином, он был шхемцем. Когда к ним, потомкам некогда чудом уцелевшего легендарного Шарру, пришли посланцы Амалека звать добровольцев на войну против евреев, Акки обрадовался. Конечно же, он пойдет! Он на всю жизнь усвоил слова деда: «Дети мои! Помните, что сделали нам сыны Исраэля. Отомстите! Уничтожьте их так же, как они уничтожили всех мужчин в нашем Шхеме! Слава богам, они ушли с нашей земли. Не дайте им вернуться! Когда настанет час – встаньте у них на пути!»
Но вот теперь, при виде решимости амалекитян, ему становилось страшно. Он-то хотел не только отбирать чужие жизни, но и сохранить свою. Странный народ эти амалекитяне! Так же, как и он сам, и так же, как сыны Израиля, они признают Единого. Но если вера израильтян выросла из внезапного безумия их предка Авраама, когда тот в припадке боголюбия чуть было не принес в жертву собственного сына, то сыны Амалека возвели в культ свою ненависть к Творцу мира и его Управителю. На каждом шагу – поношение Небесам, на каждом шагу – «Да будет проклят Тот, Кто загнал меня в этот гнусный мир!» Акки это коробило. Он не собирался, как израильтяне, без оглядки идти, куда повелит Творец, но и портить с Ним отношения тоже не хотелось. Однако амалекитяне не ограничивались тем, что грозили кулаками Пребывающему-в-высях. Не имея возможности дотянуться туда, они были готовы погибнуть, лишь бы уничтожить народ, с которого Небо начиналось на Земле, – израильтян. Сынов Амалека совершенно не смущало, что до этого похода никто из них в жизни не видел израильтянина. Мороз по коже продирал, когда они кричали: «Подумаешь, Облако! Всех евреев ему не защитить! И пусть мы умрем! А хотя бы одного убьем!» «Ну уж нет! – трепеща, бормотал Акки. – Я пришел сюда не умирать, а мстить за своих предков! Но какое жуткое место этот Рефидим! – продолжал он, озираясь. – Эти пальмы... эти скалы... И эти странные облака... – тут он поднимал глаза к небу. – Что это за облака такие, которые создают непробиваемую для стрел стену? Что это за бог такой, что уводит миллионы людей из сердца мира – Египта – куда-то в глухую пустыню, обрушивает казни на нежелающий их отпускать Египет, взрезает перед ними море, как перезрелый арбуз, и топит в нем лучшую в мире армию? Говорят, соглядатаи сообщили, что эти безумцы вместо того, чтобы набираться сил, собрались поститься перед завтрашним боем. Что их главные жрецы – Моше и Аарон – учат, будто именно таким образом они смогут подкупить Повелителя вселенной. Хоть в этом, да пожертвовать! Хоть как-то, да лишить себя радости! Мрачная вера! Нет, сынам Шхема и сынам Израиля не место на одной земле. Кому-то придется удалиться».
Но и Амалек его мало радовал. Что те сумасшедшие, что эти. Впрочем, сегодня удалось отогнать мрачные думы. На закате, когда обнаженное синайское солнце, умирая, заливало кровью горизонт, в их лагерь пришел странный юноша в лохмотьях, очень сильно смахивающих на невзрачное одеяние израильтян.
Израильтянином, как оказалось, он и был, перебежчиком из лагеря Моше. Первое, что он сделал, это всех озадачил заявлением:
– Меня зовут Махир. Я лучший стрелок из лука в Третьем номе Нижнего Египта!
Акки знал, что номами называют округа в Египте. Знал он, что стрелков в шхемском отряде не хватает, а уж хороших стрелков тем более. Что-то подсказывало ему, что этому юноше можно верить. Поэтому, когда следующей фразой стало:
– Дайте мне человеческой еды – шхемцы с удивлением переглянулись и тут же налили ему полную плошку свиной похлебки.
Только Шапи-Кальби ехидно спросил:
– Человеческой? А что, ты объелся нечеловеческой еды? – Израильтянин молча кивнул, орудуя глиняной ложкой.
Тогда уже и Акки не выдержал:
– И что это за нечеловеческая еда? Тот поднял глаза и жестко ответил:
– Манна.
Заинтригованным шхемцам не терпелось поподробнее расспросить обо всем пришельца, но тут на сцене появилось новое действующее лицо. К костру подсел молодой савеец, который днем привез им козлиные шкуры. Он рассказал, как недавно они пасли с дедом скот неподалеку от горы Синай,как дед ушел вперед, и ему пришлось собирать да подгонять коз и овец, а когда он догнал деда, видит, тот стоит на перевале прямо напротив горы, а внизу в долине народу – больше, чем пылинок в пустыне. И над горой зарево такое странное, откуда-то звук рога слышится, и то молния сверкнет, то гром заохает. Савеец явственно ощутил, что земля дрожит у него под ногами, но это не было похоже на землетрясение вроде того,что два года назад разрушило несколько кварталов в их селении. На этот раз дрожь была какой-то мелкой, непривычной. Тут все эти копошившиеся внизу миллионы вдруг застыли, точно ветви кривых акаций в безветренный день.
–Я гляжу на деда, – продолжал савеец, наливая себе в плошку еще немного отвара из трав, – и шепотом спрашиваю: «Это что здесь такое вершится?»{Видения Даббе расходятся с еврейской традицией, согласно которой Синайское откровение было не до, а после битвы с Амалеком.} А он стоит, скрестив руки, возле крупно навороченной каменной осыпи и тоже шепотом отвечает: «Это Творец Вселенной дает сынам Израиля Закон на вечные времена».
Савеец отхлебнул из плошки, слегка поморщился – видно, напиток получился кисловат. И задумчиво начал разглядывать тонущие во тьме верхушки гор.
– Ну! – не выдержал Акки.
– Что «ну»? – поднял на него глаза парнишка.
– А вы что?
– А что мы? Пошли себе дальше.
– А как же... – растерялся Акки.
– Так ведь Закон давали израильтянам, а не нам, – растолковал непонятливому савеец. – Мы-то тут при чем?
* * *
– Ага, а мы, значит, обязаны?! – возмутился перебежчик Махир, сидевший ровно напротив савейца и внешне похожий на него, так что плавящийся над костром воздух казался зеркалом, через которое один смотрится в другого. – А я, стало быть, виноват, что родился в их среде? Да я, может, всю жизнь чувствовал себя египтянином. Я люблю Египет! Как часто на рассвете я бежал на оросительный канал смотреть, как вьется утренний туман, через который пробиваются шеренги папируса, точно лучники, и толпы финиковых пальм, точно щитоносцы. Как любил разливы Нила... Вспомнить не могу без слез белых ибисов, которые рассыпаются по Египту за несколько дней до разлива – в народе говорят, что это обретают плоть наши молитвы Озирису и Изиде. А ощущение счастья во время торжественной церемонии, когда царь, осыпаемый розами, в праздничной одежде и с веткой в руке спускается в золотую барку, выплывает на середину великой реки, воздевает к небесам руки и возносит молитвы крокодилоголовому Собеку, от коего зависит, какое количество воды оросит сухие уста земли Кемета{Так жители Египта называли свою страну.}, и Птаху, который дал имена всем вещам на свете и тем самым сделал их сущими... И – вершина всего – величественная пора, когда поля уходят глубоко под воду, чтобы одеться в животворный черный ил. С детства играл я с египетскими мальчиками, лучше всех ребят с нашей улицы жонглировал мячами, стоя на плечах у приятеля, и запускал пальцами одновременно больше волчков из полированного камня, чем все они вместе взятые. А как я стрелял из лука! Когда я вырос, то участвовал в празднестве в Бубастисе. Плыли мы туда на барках, на нашей барке были и мужчины, и женщины, и многие мужчины всю дорогу играли на флейтах, а женщины – кто гремел трещотками, кто пел и хлопал в ладоши. Когда мы причаливали к какому-нибудь городу, одни женщины продолжали трещать в трещотки, другие вызывали женщин этого города и издевались над ними, третьи плясали, четвертые задирали подолы. И так – в каждом приречном городе. Зато когда мы в конце концов добрались до Бубастиса – сколько жертв там в храме было принесено! А виноградного вина сколько выпито! И еще... праздник в Саисе! После жертвоприношения мы расставили вокруг домов мелкие плошки, наполненные солью и маслом и с фитилями на поверхности. Эти светильники горели у нас всю ночь. А потом я участвовал в охоте на гиппопотамов – с гарпунами, копьями, веревками и сетями... Ах, Египет! Чудесные стояли времена! И какое мне дело было до моих древних предков, что четыреста лет назад в голодную пору нагрянули, дабы поживиться египетским богатством? Или до недавних предков, что всего поколение назад были презренными рабами. Ведь в нынешнюю эпоху многие израильтяне, и я в их числе, стали свободными и обрели самое священное на земле право – не быть израильтянином. Я чувствовал себя египтянином, и я был счастлив!