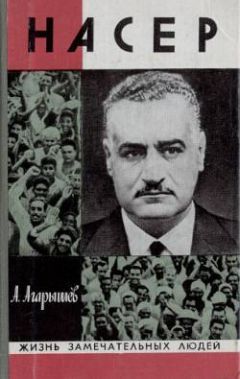Ах, как весело жил город Шхем! Ах, каким тяжелым оказалось похмелье! При этом, проходя по городу, он не увидел ни одного женского или детского трупа. Шарру прошибает пот. Только сейчас он понимает, что стал свидетелем чуда – за четыре месяца в жарком климате ни один из трупов не разложился – в городе нет никакого зловония. Нетленные тела лежат, как лежали, и, если бы мальчишки из Цриды не рассказали ему, как и, главное, когда было дело, он подумал бы, что резня произошла сегодня утром. Кто сотворил такое чудо? Баал? Иштар? Или Тот Главный, верой в которого Аврам некогда поделился с прадедом Шарру? Кому принести жертву? И какую жертву? Ни коз, ни овец нет – всех сыны Яакова угнали. Вокруг, правда, бродят собаки, но он никогда не слышал, чтобы собак приносили в жертву. Спросить бы Беора, жреца... Он видел Беора, когда шел сюда. Жрец лежал у порога собственного дома – должно быть, пытался убежать от злодеев. И судя по всему, в последнее мгновенье жизни у него после обрезания открылось кровотечение. Так и застыл он на земле, голый, в последнем извиве, орошая землю двумя лужицами крови – одной из перерезанного горла, другою оттуда, снизу. Так и не справившись с навалившимся на него чудом – первым и, быть может, единственным проявлением Сверхъестественного в его жизни, Шарру растерянно разводит руками и встает с края отцовского ложа. Нет, он не будет никого хоронить. Всех не похоронишь, а одного отца... Чем его отец лучше остальных пятисот девяноста девяти отцов, братьев, мужей и сыновей?
Он поднимает глаза. На стене висит полотно с вышитыми фигурками. Вот мужчина в головном уборе с широкими полями играет на флейте. Вот другой приносит барашка в жертву фигурке обнаженной Иштар. Иштар на полотне получилась толстопузая и с грудями, торчащими в разные стороны. А рядом пляшет еще одна обнаженная красотка. У нее фигурка – в самый раз. Видно, вышивал кто-то другой, более искусный. Вот парочка совокупляется. Да, весело жил город Шхем.
Шарру выходит из прохладной, как пещера, хижины на не по-осеннему жаркую улицу. Пусть все остается, как есть. Пусть тела эти застынут, словно памятники кровожадности сынов Яакова. Он пойдет в Бейт-Эль, где семья Яакова раскинула шатры после резни, которую она учинила в Шхеме. Он пойдет искать Адину.
* * *
– Нет, Шарру, – сказала она. – Я не пойду с тобой... Нет, я не сошла с ума, но с тобой не пойду... Я не забыла тебя, но я хочу остаться с ними... Как это с кем? С семьей Яакова! Теперь это и моя семья!
Видно было, что за четыре месяца Адина неплохо усвоила мрачные законы касательно внешнего вида, которыми руководствовались сыны и дочери ненавистного племени. Еще недавно на улицах Шхема единственную ее одежду составлял поясок да свисающий с него спереди клочок материи, который особо-то ничего и не прикрывал. В Шхеме, да будет благословенна его память, в таком виде и на улицу грехом не считалось выйти, показать, простите за игру слов, товар лицом. Теперь же она была от шеи до пят затянута в серый балахон, так что ни кусочка тела не было видно, только лицо с глазами (это пожалуйста, глаза – окно в душу), и в таком виде занималась помолом ячменных зерен.
Стоя на коленях, она высыпала зерна в широкое углубление на большом прямоугольном плоском камне и другим камнем, поменьше, перетирала эти зерна. Увидев Шарру, она не встала с колен, продолжала молча работать, лишь отпрянула, когда он, склонившись, попытался обнять ее. А когда, выпрямившись, предложил бежать с ним, ответила:
«Нет, Шарру!»
– ...Убийцы, говоришь? Да как ты можешь?! А вы, когда сговорились сделать обрезание и потом разом напасть на них? Вы что, собирались сластями их кормить? Что же им оставалось – сидеть и ждать, пока вы их сами перережете? Да кто вы такие, чтобы судить эту великую семью?! Да их история станет основой основ всего рода людского, а вы?! О вас и вспоминать-то будут только потому, что выпала вам незаслуженная честь погибнуть от их руки! А знаешь ли ты, что, убив своих будущих убийц, они их тем самым спасли! Да-да! Спасли их души от расплаты еще за одно преступление!
Произнося это, она прервала работу, выпрямилась и теперь воздевала руку с поднятым пальцем точь-в-точь как это делал Иегуда, обращаясь к братьям тогда в шатре.
– Да чего вообще стоят их жизни, да и твоя собственная? Пустота... пустота... Как это, почему пустота? А что в ней такого было, в жизни твоих и моих родных, что они могли бы вспомнить в свой последний миг? Что, кроме наслаждений, за которыми они гонялись всю свою жизнь, одни за утонченными, другие – за скотскими. Ты? Ты – за скотскими! Почему не понимаю, что говорю?.. Очень даже хорошо понимаю!
Она снова опустилась на колени с ритмичностью прибоя на берегу Великого моря, опять начала двигаться вперед-назад, превращая спелые зерна в порошок, в серовато-белую труху. Эта труха легкими облачками туманилась под ее точеным лицом, столь часто являвшемся ему в самые страшные мгновения и побуждавшим жить и бороться за жизнь.
– Что-что? Ах, вот как! Все-таки не удержался, когда речь пошла о наслаждениях, вспомнил, как я была в твоих объятиях? Дурачок, это была не я! То есть я, но другая... А что здесь непонятного? Тогда я была шхемка, а сейчас – дочь племени Яакова.
Она ссыпала муку в медный, похожий на супницу, сосуд. Сосуд этот явно был выменен у каких-нибудь купцов с Севера не на одну овечью шкуру. Адина наполнила широкую ложбину в камне новой партией ячменя. Некоторое время он молча наблюдал, как она мелет, а потом не выдержал и вставил замечание. Адина лишь усмехнулась.
– Рабыня? Рабыня, которую нельзя убить? Рабыня, которую нельзя продать? Рабыня, которую в случае побега нельзя возвращать хозяевам? Рабыня, которая, если в доме всего лишь одна кровать, ложится на эту кровать, в то время как хозяйка – на пол? Рабыня, которая получает лучшую пищу, в то время как хозяйка – что останется? Да не купили они меня этими законами, что ты несешь! Просто их вера теперь – моя вера! В чем ее суть, спрашиваешь? Да очень просто – люби ближнего, как самого себя! Опять ты про погром в Шхеме! Что они, должны были ждать, когда с ними расправятся? Вы бы на их месте, узнай вы, что против вас затевается, не стали бы суетиться! Бросили бы сестру и дали бы деру! У вас ведь – каждый за себя. А у них закон – все за одного!
Из сосуда она часть муки пересыпала в глиняный горшок и осторожно стала туда вливать отстоявшуюся воду из стоящего рядом ведерка, как и сосуд, медного, как и сосуд, привозного, как и сосуд, недешевого. При этом она беспрерывно размешивала образовывающееся тесто костяной лопаткой.
– Да, я так заговорила. Я теперь верю в единого Б-га. Да где вы верили? Разве тот, кто в него верит, станет валяться брюхом кверху да жить в свое удовольствие, так, будто Его нет! Я хочу быть как они! Чтобы жизнь стала – ответ Б-гу! Служение Б-гу! Раскрытие Б-га! Чтобы наш земной мир стал обителью Б-жьей!
Она вновь вскочила. Ее глаза горели фанатичным блеском, тело трепетало под уродливым балахоном. «Все равно, – подумал Шарру, –как она желанна! Взять бы сейчас, да наброситься...»
– Нет, – сказала Адина, перехватив его алчущий взгляд. «Нет». А кто ее спрашивает? Что может быть проще? Опрокинуть и совершить то, ради чего он оставался жить, когда жить не было возможности... Неужели она закричит и тем самым обречет на неизбежную гибель того, которого так любила?!
– Закричу, – ответила Адина. Шарру вышел из шатра и побрел обратно в мертвый Шхем.
* * *
А потом было иное путешествие во времени и пространстве. Тогда Вахид перевоплотился в своего отважного предка, жителя Шхема, и поспешил за сотни миль и тысячи лет через Иудейские горы и Синайскую пустыню, в далекий Рефидим, чтобы вместе с отважными амалекитянами встать на пути у ненавистного народа, вышедшего из Египта.
ТОГДА В РЕФИДИМЕ
Они уставали. Они очень уставали, эти люди, идущие так же, как предок их Авраам, в Неведомое. Они шли в Неведомое, и вела их любовь. Любовь к Тому, Кто вырвал их из пропасти изгнания. Повинуясь только Его зову, Его предначертаниям, они шагали и шагали сквозь пустыню, не зная, ни сколько им еще отмерено шагать, ни какие испытания ждут их в пути, ни чем это все закончится. И они уставали – не от тягот дороги, не от многодневных переходов. Они уставали от неведения. Он был с ними и не с ними. Там, у моря, Он разверз воды, но Его они не видели – видели лишь трясущиеся слева и справа водяные стены, откуда на них летели колкие брызги да высовывали морды перепуганные рыбы. Моше говорил от Его имени, но вновь – они видели лишь как размыкаются потрескавшиеся губы Моше, а Его – не видели. В пустыне Облако, словно гигантская ладонь, защищало их и от палящих лучей, и от вражьих стрел. Словно... но выглядело оно не как ладонь, а... облако и облако. И они уставали. Они хотели очевидности. Они были слабы и больны. И болезнь была их слабостью. И слабость была их болезнью. И корень у их болезни и слабости был один – усталость.