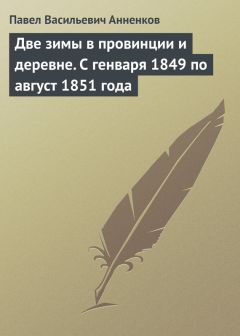Горькая правда, что все мы заранее смертны, стращал я, делает эту цветочную пыльную-пульную жизнь издевательски, как идиотски, бессмысленной жизнью, куда на свои похороны родимся насильственно в ужас убоя за каплю нектара, в оглобли тяжелой поденной работы, в оскомину простенько робкой судьбы, где родившийся будет унижен изъятием из обихода, то бишь он будет однажды никто не по собственной воле.
Нам остается только самоубийство как единственный выход уверенно распоряжаться собой по-хозяйски, — но в этом у генерала должна быть эстетика чести, не правда ли?
Сладкая правда?
Сладчайшая.
Третьей статьей, где поклялся, что скоро хлестово помру впереди стариков и детей, началась операция непослушания тьфубытию. Людишки поверили мне предварительно на слово. Сначала неглупые кум и кума поддержали мои постулаты по-свойски поочередно прыжками в омут. Естественно, прыгали спьяну. Следом и прочие психи народа меня поддержали — кто на храпок истыкал иголками тощие вены, впуская, вливая туда наркотик, а кто на веревке за шею расправил отвисшую радикулитную спину. Помнится, некий сподвижник учения, будучи нашпигованный на девяносто процентов огульной соленой водой в организме, публично засох, объявив у себя голодовку протеста на пляже, — ныне внизу моего мавзолея миляга музейно покоится весь искареженный, как ископаемый, словно плебейская мумия вяленой воблы в историю. Как экспонат. А другой замечательный наш ученик — артистик. Он ошарашил общественность опытом исчезновения вместе со сценой капеллы на спевке. Бесследно размытый тогда на волне колебания звука, тот Яшка в очко мирового сортира пропал, изойдя на пронзительный тенор. Это слишком искусство. Был Яшка — нет Яшки. Ни праха, ни пепла. Но все-таки детский, давнишний рентгеновский снимок утробы на память о нем обнаружили — дошлые внуки на память о нем обнаружили. Внуки нашли героично в альбоме потомства гастрит изнутри да прямую кишку наизнанку.
Был Яшка — нет Яшки.
Гастрит и кишка.
Мне самому почему-то везти — не везло.
Мне сгинуть отсюда мешала на редкость ответственность автора модной теории. Там у меня вновь и вновь открывались отдельные прыткие новости, шустрые блестки большой глубины — мне хотелось ее до конца распоясать и густо снабдить афоризмами, чтобы затем эти перлы добра-серебра принести философски на суд опаленной толпе читачей.
Правительство забеспокоилось, ибо людишки, читая меня, разумеется, массово дохли. Народу грозила повальная смертность, и некуда было державе девать его битые кучи костей, которых у каждого трупа дохлятины более тысячи штук, а министрам отпущено разума на размышление меньше наперстка на всех. Они, закулисно мыча, думали-думали, все, что могли, передумали, перемычали, когда, наконец, у соседней строптивой державы, страдавшей врожденно чесоткой, наняли на золотые запасы… на золотые запасы… наняли… кавалериские части… Кавалерийские?.. Надо же, слово какое ты правильно блеешь и знаешь… Я тоже люблю научные термины… Ка… либо ко… Коварелийские?.. Ну, жеребячьи — понятно?.. Конскому войску защиты наметили скудную цель — одного меня саблями вырубить и зацензурить.
Я вышел и вынес орде на прощание тихое теплое слово напутствия:
— Рубильники! Раннюю смерть от удара по лбу принимаю наградой счастливого случая. Мне ваша свора — до Гулькина…
Лошади, выслушав, оторопели, заржали душевно, попадали навзничь, а пешие всадники — молча крошили себя палашами.
Так и закончилась эта неравная сеча вничью.
Кстати, министрам отставка была на сей раз обеспечена. Взял я, конечно, верховную власть и не первое красное лето красиво хожу в аксельбантах, а кто такой Гулькин, ей-ей, не знаю. Хочешь, ответствуй мне, чем он известен. Или твои плодородные думы снова куда-то на поиски вечного духа далёко направлены? Дух — это мистика. Лучше про Гулькина — что за персона.
Послушай, тебе наденут аркан, и дух у тебя под овчиной мгновенно покинет обноски трусливого тела. Вот и вся вечность. Или ты не согласен?
Я чую, тебе не по вкусу мой звон отклонения в исповедь. Я раздражаю тебя, да? Не нравится, может, еще моя внешность? А моя власть у тебя вызывает икоту с испуга? Не нравится внешность и власть?
Я внешне похож, это знаю, люблю, на хорошую связку бананов. Опух и свиреп. А свиреп — от угодников и подхалимов. Я только снаружи маленько свиреп, а в интиме души — часто писаюсь.
О власти слова запомни.
Приятственна всякая власть, если, конечно, располагаешь ею.
Таковы, Карлик, истины, до которых умельцу рукой падать, если, конечно, рука твоя длинная.
Что? Снова прищучил я тебя? Как я прищучил? А как и раньше. Когда ты на дереве был и свалился. Мы с этим еще разберемся потом, отчего ты свалился, какая была твоя тайная цель опорочить идею.
Глянь-ка сюда — сто томов!..
У меня сто томов, я писал их один, они толстые-толстые все, ты завидуешь!..
Ах, это, по-твоему, чушь? Это — количество, не переходящее в якобы качество? Что, что, что? Кому там известны какие три случая, когда получаются толстые книги? Давай раскрывайся последними картами, как и когда, почему получаются толстые книги взамен афоризма. Ну, первый? Первый, когда продолжительно долго доказывают именно то, чему сами не верят? Интересное рассуждение — плохо, что длинное тоже. Второй случай жду, не тяни кошку за кишки. Стало быть, это — когда на душе ни копейки таланта что-то сказать и сказать, увы, нечего, вот и льют они жижу на пустоши каждой типично раздутой страницы тщеславия? Мне твоя партия мыслей до Гулькина, понял? Я золотое перо поколения, понял? Я совесть его проходимцев, основатель, утеха. Кто графоман, опосля разберемся.
Чем я, гляди, не Сократ?
А теперь еще сбоку гляди — не Платон?
И возвращайся на круги своя в отведенную камеру — там обезьяне комфорт и кроссворд.
Или — нет! Я сейчас уши заткну войлоком, а ты свое мнение снова сбреши. Впустую, конечно, глухому, но как у тебя сгоряча всего-навсего мыслей за целый день остается там узенькая полоска поперек одинокой страницы, поделись опытом.
У меня самого вихрь идей постоянно присутствует, а ты вот узенькую полоску намысливаешь едва-едва за день.
Ибо лентяй.
Вспомни-ка, много-много писать и писать — это похоже, по-твоему, на переедание?
Далее что насулил, еще помнишь? Я чье перо? Мыши летучей перо, по-твоему? Как, уже не перо? Тогда кто? Скоробей? Спасибо — вручил аттестат!..
Изыди… Не слышу, впрочем…
2
Деревня Шнурки мыкала время в ущелье — на дне.
Пятнистый клочок обозримого неба давал ей прожиточный свет и тепло на дальнейшее благополучие. Солнце кривыми лучами туда проникало кривыми путями.
Вокруг ущелья, где, мыкая время, думали думы Шнурки, разросся, раскинулся лес и лежала большая равнина. Пенаты людей, вероятно, разумнее было бы располагать именно там, а не в яме. Но суеверные жители, боясь эпидемий, не селятся на сквозняке.
Ни бабы, ни мужики Шнурков еще не постигли науку цифири, но меру вещам они знали нисколько не хуже нашего брата.
Пенаты с удобствами для продолжительной жизни деревня себе собирала хоромоподобные. Кормила-поила деревня себя делово без опеки товарного внешнего рынка, который своей конъюнктурой туда не проник и доныне. В амбарах и на чердаках у хозяина каждого дома стоит ароматический дух изобилия всяческой снеди. Лен и редиска под окнами каждого дома росли сообразно потребностям, а шкурная кожа домашней скотины шла после выделки на производство гармоний.
Сообразно потребностям огонь и железо для кузниц они добывали себе воровством у вулкана — дряхлый вулкан оказался ничейным, однако пока не погасшим.
Утром июльское вёдро манило крестьян обрести напряжение мускульной силы, где человек и природа на редкость едины. Стояла пора сенокоса. В эту нелегкую пору порухи зеленого верха жуки, земляные красавцы, панически между корнями растений трясутся, что всю популяцию, всех их отловят, отловят и скоро сожрут оснащенные косами хищники. Напрасно трясутся. Пора сенокоса — грибная пора. Шампиньоны кругом у корней молочая натыканы к употреблению. Поэтому кушать усатое мясо жуков у косца нет охоты.
Косы, как острые молнии, падали вниз и вперед, отсекая пушистую гриву травы, поднимались и падали снова. Звенели, шуршали картавые косы по стеблям. Из этого звоношуршания косы хитрили составить одну задушевную, звонко шуршавшую фразу, которая, кажется, не лишена была смысла, хватавшего за сердце. «Любит — не любит, любит — не любит». Эти слова говорящей косы заглушали собой летний шум и другие шумы на лугу. Сами крестьяне трудились азартно до признаков изнеможения, трудились они до непрошеной боли, которая хуже горчичника жгла в онемевшей спине, трудились они до корявого пота — пота ручьями по брюху. Любит — не любит. Уже пополудни рабочий народ, отдохнувший за время большой передышки, снова бросался косить и потеть, и коса мужику говорила про бабу подначливо: любит — не любит, любит — не любит.