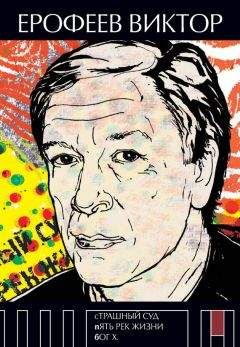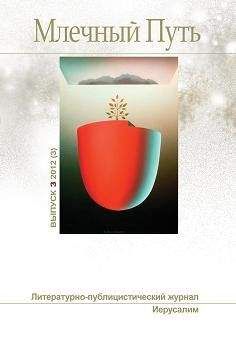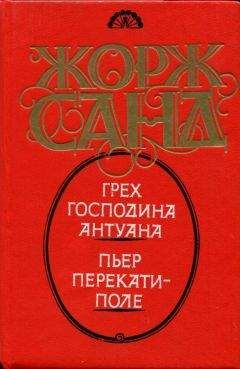Иногда я, как Пушкин или Чаадаев, люблю писать не важно что по-французски: Moscou n’existe pas. Paris, formidablement réele, existe sans consideration du temps qu’il fait, de votre humeur ou de vos finances, de vos liens personels avec les Parisiens. Paris existe sans vous. Moscou, au contraire, a grand besoin de vous pour acquirir quelque realité. Son seul architect, c’est vous, même si vous n’êtes pas un professionel! Moi non.
Почему бы нам с тобой не подумать о пожизненной любви? Почему вы обе такие ваньки-встаньки? Почему, когда ты раздеваешься, начинает одеваться длинная Танька, а когда я ловлю ее, и она раздевается, ты хватаешься за платье в легкий горошек? Неужели мы вывели простейшую формулу ревности?
Ты не столько ебешься, сколько кусаешься. Мне приходится держать тебя за волосы, чтобы ты не обкусала меня до костей. Все заканчивается женской истерикой. После незамысловатых пирамид в духе моего советского детства ты в голос рыдаешь. Твоя подружка забралась на небеса со своими перламутровыми руками. Длинная Танька размазала всю свою французскую косметику. Она так хотела прийти ко мне в длинном лиловом платье! Ты сидишь у кровати и рыдаешь. Мне ничего не остается, как подрочиться в твое рыдающее лицо. Посмотри на меня, собака! Лови! Лови! Она ловит все, что надо и не надо, поймала.
Я понимаю, что я разучился думать. Я понимаю, что плоские игры моей родины обворовали, растратили меня на пустяки. Москва приобретает очертания города. Пора ей снова облупиться до основания, расползтись по подвалам. Только это вернет мне способность соображать. Русское счастье — опасный оксюморон.
Я ненавижу тяжелый московский быт. Я ненавижу либеральные мемориальные доски, покрывшие Москву, словно сыпь. Я ненавижу отсутствие очередей. Я разрезаю Москву на несколько кусков. Дымится пролетарский восток кулебяки. Хрустят на зубах пустые бутылки в Текстильщиках. Лишенный с детства истории, я невольно оказываюсь ее непосредственным свидетелем и понимаю, что она для меня слишком мелка и нелюбопытна. В коридоре слышатся охи длинной Таньки. В Москве нельзя болеть и дико умирать. Голая страдающая баба страшнее и омерзительнее опрокинувшегося на спину жука. Она не вызывает ни желания, ни сострадания. Ее хочется вымести веником вон из квартиры. Я делаю вид, что хочу вызвать скорую помощь. На самом деле я стою на рассвете и курю в ожидании, что будет дальше. После варенья ты перешла на котлеты и креветки. Солнце мое раскулачила мой холодильник.
Городская канализация сооружалась в течение 24 лет и до сих пор обслуживает лишь центральные районы. 95 % московского населения не употребляет туалетную бумагу, предпочитая газеты и старые письма. Я жду прихода большевиков как награду за собственное инакомыслие, как отличительный знак непрозрачности дикаря, спасительной инаковости, как расплату за ложную идентичность, как экзортический способ продления русской материи. Я думал, московская мафия возьмет на себя все функции непроницаемости. Я думал! Но она оказалась подвержена коррозии всеобъемлющей одинаковости, она уже распорядилась отдать детей в престижные школы, они уже в Гарвардах пишут на отцов доносы, эти павлики морозовы шиворот-навыворот.
Я обещал рассказать поподробнее о твоей детской пизде, светлой, не окруженной срамными делами, я обещал, но боюсь, что не справлюсь с заданием. Москву нетрудно обидеть, засомневавшись в ее бессмыслице, отсутствии логики, культурных ориентиров.
Красная площадь. Sur son ventre incliné, qui me rappele la rotondité de la Terre, vous decouvrirez un curieux nombril, Лобное место, grand comme une pisсine gonflable. Запад нам нужен ровно настолько, чтобы в нас самих его не было вовсе.
Саша. Здравствуйте, дети, наш папа умер.
Маша. Солнце русской поэзии закатилось.
Гриша. Ты всегда была прикольным ребенком.
Маша. Когда Дзержинский вел меня на расстрел, я посмотрела ему в глаза и сказала: «Я — Маруся Пускина. У меня зубки режутся. Я не умею произносить букву «Ш».
Глаша. И что?
Маша. Не расстрелял.
Саша. Ну, ты, Маруся, я тебе прямо скажу — хулиганка.
Гриша. Ей повезло. Хотя бы здесь отец пригодился.
Наташа. Отчего он умер? Он что, отравился? Я все забывала маму спросить, что у него за болезнь.
Саша. А он еще не умер. Он умирает, но еще не умер. Он мучается. Я пошутил.
Маша. Значит, солнце пока не закатилось за диван?
Наташа. Ничего себе. А я поверила, что он умер.
Саша. Он умрет обязательно, но мама сказала, что есть возможность его спасти.
Глаша. Дуэли запрещены. Мне неприятно, что он хотел убить другого человека на дуэли.
Саша. Приходил французский доктор. Он опробовал на свиньях новый препарат от заражения крови. Предлагает опробовать его на папе.
Гриша. Пусть мама решает. Как можно лечить человека свинским препаратом?
Саша. Мама сказала, чтобы мы решали. Как наследники.
Маша. Ну, как наследники мы, конечно, решим.
Гриша. Устроим голосование? Простым большинством? Или как в Польше: если один против, решение не проходит.
Наташа. Давайте, как в Польше. Так интереснее.
Глаша. Как называется препарат для свиней?
Саша. Ну, почему вы не кричите, не плачете? Пенициллин.
Маша. Какая гадость. Нельзя было назвать как-нибудь покрасивее?
Глаша. Например, Евгений Онегин.
Гриша. Тоже мерзкое название.
Саша. А как он нас назвал? Саша, Маша, Гриша, Наташа, Глаша — все на ША.
Маша. Саша, Маша, Гриша, Наташа, Глаша. Почему, в самом деле, на Ша?
Саша. В этом есть что-то французское.
Гриша. Короче, кошачье. Мы для него — кошки.
Наташа. Издевательство.
Маша. Я плачу. У меня зубы режутся.
Гриша. Не ври.
Наташа. А кто, собственно, плачет?
Глаша. Жалко. С другой стороны, мне было всегда за него стыдно. Он любил не прожаренное мясо с кровью. Противно. Он ел салаты из цикория с помидорами, заправляя их оливковым маслом и уксусом. От пережора у него вырос живот. Живот был кругленький, как у Будды, в курчавых волосиках. Меня рвало. Я не могла находиться с ним за одним столом. Теперь этот живот прострелили.
Наташа. Он грузил нас своим отцовством. Он носился за нами с девичьими трусами и кричал, чтобы мы не смели… «Не смейте вешать ваши трусы сушиться в ванной на батареи! Это не по-европейски!»
Саша. Помните, он приходил к нам в детскую, гладил по круглым лобикам и говорил со слезами на глазах: «Дети Пушкина не удались».
Глаша. Ну, да. Он говорил, что он все для нас сделал, поступил нас в университет, посылал каждое лето на отдых во французские Альпы, выгодно женил и за графьёв выдал замуж. И что он больше не будет звонить нам по телефону. Никогда не будет звонить.
Гриша. Он хотел, что мы выросли необыкновенными людьми. Стали бы пиратами и проститутками. Чтобы он мог нами гордиться.
Глаша. Он называл меня лимитой, говорил, что лимитчица и минетчица — однокоренные слова, загонял в комплексы, ненавидел куклы, в которые я играю, ненавидел моих белых мышек и птиц, гнобил за маленький рост, хотя я повыше его буду, и в то же время подсматривал за мной, когда я сидела на горшке.
Маша. Он каждый месяц с ученым видом проверял меня на предмет того, не растут ли у меня волосы на лобке, и требовал, чтобы я писала рассказы и повести из деревенской жизни.
Глаша. Он ненавидел меня за то, что у меня — молочница, что из-за этого в моей пизде плохо пахнет материя, он глумился над моими сиськами.
Гриша. Каким образом?
Глаша. Он хотел их оторвать.
Наташа. А меня он имел анальным способом еще в возрасте шести лет. Маме это очень не нравилось.
Саша. Когда он меня первый раз трахнул в попу, я думал, что умру от боли. А он говорил, что, может быть, хоть так он отучит меня от тупоумия.
Гриша. А со мной он сделал такое, что страшно сказать.
Маша. Расскажи! Мы рассказали, а ты — нет!
Гриша. Не расскажу.
Наташа. Гришенька, расскажи. Ты ведь офицер. Ты должен рассказать.
Гриша. Ни за что.
Глаша. Он ел твой кал? Я угадала?
Гриша. Гораздо хуже. Нет, не расскажу.
Маша. Тогда я голосую за смерть Пушкина. Понятно?
Гриша. Ну, и голосуй.
Маша. Стучат в дверь. Как они нетерпеливы. Закрой, Сашенька, дверь на ключ. Мы еще не решили.
Саша. Мама просила не затягивать с решением. Он никогда не смотрел нам в глаза. У него глаза бегали. Я невосприимчив к красоте природы, мне папенькины кавказы и закидоны ни к добру. Я деньги люблю. Я очень люблю деньги. Если бы мне платили много денег, я бы стал гением.