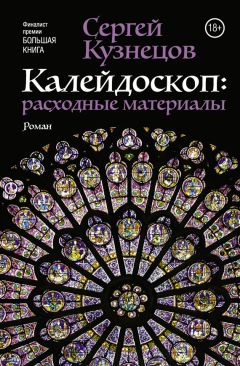– Оооо, – стонет София, – я тоже хочу сняться в этом фильме! Я хочу, о да, я хочу в вашу команду! Напишите мне роль, я ведь американка, я могу сыграть Джеки Кеннеди…
– Нет-нет, Джеки ведь не убили… зачем она нам… ради Бога, осторожней, не так резко, ох, ох… мы хотим снять убийство Мартины Лютеры Квин… у вас нету подружки-негритянки?
– Нет, ой, нет… но обещай мне, обещай, что напишешь роль для меня? Обещай или я уйду!
– Нет, не уходи, постой, останься, вот, вот, и еще немножко, конечно, напишу роль, да, конечно, роль, да, напишу, ох, Боже, Боже мой!
Идеальный расклад, думает Бонфон, два самовлюбленных дурака. Бездарная красотка и надутый американец. Классика: лев против крокодила, хищник против… против кого, кстати?.. против пришельца, да. Тоже можно кино снять.
Мне всегда нравилось кино. Моя работа – сродни актерской. И эти двое ребятишек – как дети, которых у меня никогда не было.
– Слушайте меня, дети мои! – гремит Бонфон. – Одним выстрелом мы убьем двух зайцев. Точнее, мы позволим зайцам перестрелять друг друга.
– Перегрызть глотки, – хихикает Лоренцо.
– Вот именно! – Бонфон кивает. – Слушайте меня, и я избавлю вас не только от вашего Нортена, но и от вашей бездарной Костини с ее сиамским котом. Мы поимеем их обоих!
Раз уж я не могу поиметь эту Антонеллу иначе, с грустью думает Бонфон.
Он знает: его план хорош. Как-никак почти полвека практики. Но, если честно, Бонфон охотно поменял бы половину своего жизненного опыта на лишние двадцать пять лет молодости.
– Постой, – говорит Сальваторе, – а как мы доснимем кино без Антонеллы? У нас еще несколько сцен! И мы планировали, что ее героиню, красавицу-журналистку, убьет безумный ветеран Вьетнама, и это символизирует гибель свободы слова…
– Погоди, – встревает Лоренцо, – какая еще гибель свободы слова? Сейчас телевидение – главная власть, ты же знаешь! Давай вместо этого у нас безумные сатанисты убьют беременную польскую актрису.
– Почему – польскую? – оторопело спрашивает Сальваторе.
– Потому что это – дело Шэрон Тейт! А ее муж, Роман Поланский, – поляк.
– Он еврей! И Шэрон Тейт, наверное, тоже! И уж точно – не полька!
– Ну и ладно. Значит, это будет намек на его фамилию.
– И где мы возьмем беременную польку?
– Найдем где-нибудь. Ты послушай, как я здорово придумал! Удивительно, что мы сразу не догадались. Ведь это убийство – это и есть дефлорация шестидесятых годов в Америке, утрата невинности, пролитие девственной крови всех хиппи мира. Как мы можем это не показать? Когда мы с Софией это придумали…
– С какой Софией?
Бонфон ровняет дорожку и думает: все-таки они идиоты. Им это сраное кино дороже его гениального плана. Киношники – сумасшедшие.
Бонфон вспоминает август сорок пятого, побережье Корнуолла. Как звали эту худую блондинку с обвисшим лицом? Нина? Ольга? Пятнадцать лет нигде не снималась, а все еще считала себя звездой.
Всегда старался работать аккуратно, думает Бонфон, но без накладок не обходится. Вон в Корнуолле как все было хорошо задумано: смерть и воскрешение священника! Несколько капель снадобья, вызывающего глубокий обморок, похожий на смерть, потом – волшебная пилюля, тайком засунутая в рот этой самой Ольгой, – и… аллилуйя! – славьтесь, Неведомые Боги, новые властители Вселенной! Все без обмана, священник самый настоящий, никакого сговора. Все бы поверили. А патер, старый дурак, взял и умер на самом деле. Сердце не выдержало.
Вот глупость.
– Ты сошел с ума! – гремит Сальваторе. – Что тебе было сказано? Не пускать эту шлюху на площадку! А ты что делаешь? Ты ей пишешь роль!
– И что тут такого? – отвечает Лоренцо. – Я – сценарист, я пишу ей роль. А ты – режиссер, ты не снимаешь ее в этой роли. Вот и всё.
– Заткнитесь оба, – не выдерживает Бонфон. – Вам что, не интересно, как мы спустим в унитаз Нортена и Антонеллу?
– Ладно, – Сальваторе мрачно кивает Лоренцо, – с тобой я потом разберусь. Рассказывайте, месье Бонфон.
– Товарищ Бонфон, – хихикает Лоренцо, – он же русский.
* * *
Когда-то каждый новый мужчина был открытием, чаще всего – неприятным. Грязные желания, дурные фантазии, неожиданная, незнакомая раньше боль. Потом они слились в одного бесконечно повторяющегося клиента – грубоватого, торопливого, бормочущего что-то на непонятном языке, тискающего грудь и задницу, оставляющего засосы и синяки, вертевшего в постели, как надувную куклу из секс-шопа. Притворно вскрикивая от несуществующего удовольствия, она, чтобы не было так противно, считала заработанные деньги, представляла их – купюра к купюре, бумажка к бумажке… мятые, стыдливо переданные из рук в руки, гордо выложенные на прикроватную тумбочку, отсчитанные один в один или щедро превысившие тариф. Ей казалось, купюры она помнит лучше, чем мужчин, – а потом она снова начала различать лица и тела, крепость объятий и резкость движений… скорострельная порывистость молодых, холодная старательность опытных плейбоев, мучительная борьба со старческой плотью.
Он лежит рядом, уставший, вымотанный, выжатый не столько заранее оплаченным сексом, сколько одинокой старостью и долгой бессмысленной жизнью, лежит и мнет ее грудь – скорее по привычке, чем от возбуждения, – и говорит, говорит… если вслушаться, она почти все поймет, но ей платят не за это. И потому она молча и устало глядит через плечо старика на панорамное окно, за ним – мечтой из далекой юности – светятся огни волшебного города, вспыхивают неоновые рекламы… чудесные, манящие, обещающие немыслимую удачу, невиданное шоу, взлетающие ввысь ноги танцовщиц, вожделение без конца и края, утоление страстей, надежду на счастье, на вечную жизнь в искусственном раю.
21
1997 год
Шесть дней в марте
В детстве Лорен любила смотреть, как взлетают самолеты. Гигантские металлические птицы отрывались от земли и спустя минуту превращались в сверкающую точку в голубом небе. Над аэропортами ее детства всегда расстилалась нежнейшая синева, серебряные блестки лайнеров вспыхивали в ней волшебным прощальным приветом, унося пассажиров в чудесные дальние страны, к новой неведомой жизни, по ту сторону скучной школьной рутины. Ожидание в аэропорту Лорен любила больше самих полетов – пока не объявлена посадка, можно воображать, что на этот раз она в самом деле полетит в волшебную страну, в питерпэновский Неверленд, в аляповато раскрашенный Оз. Но вот голос диктора объявляет рейс, место назначения названо, сказка закончилась.
Позже, уже подростком, Лорен поняла, что большинство американских девочек считали бы ее жизнь удивительной и полной приключений: ей довелось пожить в Европе, в Катаре, в Японии и вот теперь – в Южной Корее. Но школа – всегда школа, а школа на военной базе – школа вдвойне; даже в маленьком городке больше шансов спрятаться, чем в Сигонелле, Мисаве или Осане – все знают твоих родителей, все знают тебя, все знают, когда ты должна быть в школе, а когда – делать уроки. И, конечно, у военных всегда первым делом – дисциплина.
Когда мама брала Лорен в город, девочка как зачарованная смотрела сквозь затененные стекла машины на своих смуглокожих, черноволосых сверстниц, играющих на улице в неведомые Лорен игры. Девочки казались неуловимо прекрасными, свободными и недоступными, как принцессы.
Разумеется, Лорен с мамой много летали: с одной базы на другую, на каникулы к бабушкам и дедушкам, а последние два года – в Бостон, где учился Артур. Полеты стали рутиной, и мало-помалу Лорен перестала следить за самолетами: в аэропорту садилась в кресло и утыкалась в книжку, не имевшую отношения к реальности и потому не сулившую разочарований. Она навсегда запомнила: тем сентябрьским днем она читала «Унесенных ветром». Мама не была уверена, что эта книга хороша для пятнадцатилетней девочки, но отобрать бабушкин подарок на день рождения все-таки не решилась. На обложке мужчина с дурацкими усиками держал на руках черноволосую красавицу в алом платье; потом выяснилось, что это афиша знаменитого фильма, но тем утром, когда они с мамой поехали встречать отца, Лорен еще ничего не знала ни о Кларке Гейбле, ни о Вивьен Ли.
Самолет из Нью-Йорка прилетал в шесть утра, и за пять лет – до самой маминой смерти – Лорен так ни разу и не заставила себя спросить, зачем та взяла ее с собой в такую рань, – еще девочкой Лорен приучилась не задавать лишних вопросов. От базы до Сеульского аэропорта был час езды, в машине Лорен спала, и редкие рекламные щиты, подсвеченные галогеновыми лампами, проносились за окном, бросая отсвет на лицо: припухлые губы, светлая челка, длинные ресницы то и дело вздрагивают во сне.
В аэропорту мама велела «сидеть здесь», а сама ушла – не то в туалет, не то по каким-то делам. Лорен открыла книжку, там было все то же: Юг проигрывал войну, янки осаждали Атланту, а Скарлетт О’Хара в очередной раз собралась подумать завтра о тех вещах, мысли о которых не следовало бы откладывать. Лорен не сразу заметила, как рядом сел заспанный мальчик лет двенадцати, в круглых очках и майке с Суперменом.