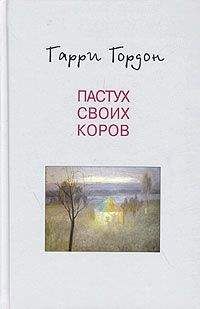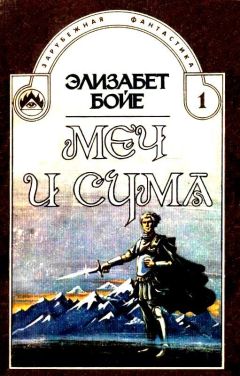На белой скатерти темнели бутылки кубинского рома, блистала на тарелках ресторанная еда — цыплята-табака, котлеты по-киевски, салат оливье…
Пение умолкло.
— Баба Люба! — восхищенно прошептал Аркаша.
Лейтенант нашарил на подоконнике фуражку. Костя радостно заулыбался:
— О, голубка моя, — пропел он и похлопал себя по коленям, — иди до папы…
Знакомым уже оранжевым светом окрасилась комната. Люба ослабела и села на кровать. «Будущее накрыто, как праздничный стол, — так, кажется, говорил Адам».
— Пошли все вон, — равнодушно сказала она.
— Любаня, — не поверив, начал Валера, но Зигота резко перебила его.
— Так, — железным голосом сказала она, — встали и пошли!
«Ай да Зигуля, — удивилась Люба, — сформировалась таки…»
— Все! — Люба поднялась и хлопнула в ладоши. — Завтра. Все завтра…
На лестнице компания снова запела. Люба отыскала в кухне граненый стакан, налила в него рому и поставила на буфет. Скатерть вместе с едой она свернула за концы. В мусорное ведро сверток не помещался, пришлось положить его на пол. Протерла стол, и медленно выцедила весь стакан.
Пространство покосилось, деформировались предметы, зароились перед глазами светящиеся червячки. Воздух кончался, как при нырянии, и как будто вода затекла под маску, и побежали по стеклу сияющие волны. Люба шумно выдохнула и налила еще полстакана.
Комната пришла в себя, листья платанов лопотали в распахнутом окне, за деревьями голос Валеры проникновенно и жалостливо выводил:
Я помню луной озаренный
Старый кладбищенский двор,
А там над сырою могилой
Плакал отец-прокурор…
Раздался дружный смех, Люба улыбнулась.
Снова потемнело в глазах, да нет, — успокоилась она, это в комнате.
Лампочка в абажуре тускло покраснела, вспыхнула на мгновение ярче обычного, хлопнула и погасла. «Что б ты, — в досаде поморщилась Люба и махнула рукой: — Завтра, завтра».
Платаны зашелестели, крупные капли лупили по листьям, прокатился гром, запахло озоном. Люба легла на кровать, прикрылась пледом. Ей было хорошо и спокойно. Она вытянула ноги, подложила ладони под щеку, улыбнулась и умерла.
Гроза пенилась и громыхала всю ночь. В четвертом часу стучал костяшками пальцев в двери приемного покоя психбольницы беспокойный человек. Его трудно было назвать мокрым: он весь состоял из струящийся воды и окрестного мрака. Стучал настойчиво и безнадежно, и голос его был слаб:
— Зажгите свет, — призывал свет, — и заприте двери. Зал опустел — ушел последний зритель. Не подвергайте амортизации пленку понапрасну…
В стекле дубовой двери всплыло мутное лицо привратницы.
— Зажгите свет, — строго сказал Адам. — И заприте двери. Зал опустел — ушел последний зритель.
Он долго смотрел, как открывался и закрывался рот привратницы. Затем лицо исчезло.
— Зажгите свет, — снова потребовал Адам.
Привратница, шаркая, поднялась на второй этаж и тронула за плечо спящего дежурного врача.
— Семенович, — прошептала она, — там какой-то психический колотится об стекло.
Врач приоткрыл глаза.
— Вечно ты, тетя Надя… — проворчал он и поднялся. — Где он, твой психический?
Он глянул в окно. Едва различимый в темноте Адам показался ему незначительным.
— Гони его, тетя Надя. Утром пусть приходит. В восемь ноль-ноль.
Привратница пожала плечами и позвонила в милицию.
— Не следует подвергать пленку лишней амортизации, — объяснил Адам, усаживаясь в милицейский «газик».
Дождь прекратился, торжественно светились витражи луж с отраженными черными ветвями.
Минут через сорок машина вернулась. Адама выволокли под руки и прислонили к стене. Лицо его было в крови.
— Мамочка, — сказал милиционер привратнице, достучавшись, — это же типичный ваш. И чего было нас дергать. Делать нам больше нечего — психов метелить…
— Наш… ваш… — ворчала привратница, тяжело распахивая дверь, — все свои.
Она завела Адама в коридор.
— Ты, золотко, посиди тут, коло окошка. А в восемь ноль-ноль доктор определит — чи ты буйный, чи ты блаженный. А будешь баловаться — санитаров позову. То тебе не менты — грамотные хлопцы.
Она удалилась. Адам, усмехнувшись, взобрался с ногами на широкий подоконник и прислонился головой к стеклу.
К серому свету за окном прибавился золотистый — далеко, за мокрым городом, над горизонтом вставало будущее.
Все оживилось, прокашливалось, перекликалось.