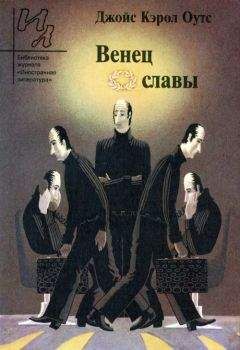— Тимми! — сказала она раздраженно, — Ты уколешься. Уйди отсюда. Марш в ту комнату, смотри телевизор.
Он сразу повернулся и пошел, не взглянув на нее. Провожая его взглядом, она почувствовала: не надо было это говорить, это ошибка, непростительная и, в сущности, преднамеренная, как история с дверьми; ведь его могут от нее отрезать, он окажется в ловушке.
— Нет, нет, Тимми, — сказала она, протягивая к нему руку. — Он обернулся, испугался. — Нет, пойди сюда. Пойди сюда.
Он медленно к ней приблизился. Его глаза были доверчивы, а губы, плотно сжатые, — насторожены, они боялись доверчивости, что светилась в глазах. Аннет заметила все это — ведь и она пережила нечто подобное, желала ему смерти, когда он родился, — и, подавив обиду, наклонилась к сыну, обняла:
— Я с тобой, деточка, никого не бойся. Успокойся. Сядь. Я принесу тебе поесть.
Тимми позволил матери усадить себя за стол в столовой. Он был как-то странно тих и не поднимал головы. Интересно, почему он напустил на себя столь смиренный вид? Я пробьюсь сквозь эту оболочку, думала, стоя в кухне, Аннет, я войду к нему в доверие. И с этой мыслью сперва осторожно, потом волнуясь, торопясь, она стала рыться в холодильнике, что-то трогать, что-то переставлять и даже что-то опрокинула — банку пикулей, — а потом внесла в гостиную пирожки с клубникой, испеченные накануне, корзиночку свежей клубники и несколько яблок.
— Ешь, детка, — сказала она.
Но Тимми ничего не брал; у нее самой от нетерпения потекли слюнки, а он только удивленно моргал.
— Ешь, ну ешь, — сказала она раздраженно, — Ты же любишь их. Ну.
— Салфеток нет, — промямлил он испуганным голосом.
— Обойдешься без салфеток, без скатерти и без тарелок, — сердито сказала Аннет; до чего же он медлителен, ее ребенок, как те дети с пустыми лицами, деревенские дети, которые вечно стоят на дороге и таращатся на ее красный автомобиль. — Ну возьми же. Кушай. Кушай.
Она опять пошла на кухню и увидела, как он медленно поднес к губам пирожок.
Она вернулась почти тотчас же и принесла брикет мороженого, корзиночку малины, тарелку, на которой в развернувшейся вощеной бумаге лежали ломтики курятины, — на нее напал острый приступ голода. Она села рядом с Тимми, который все еще не приступал к еде — только глядел на мать печальным взором, — и вонзила зубы в пирожок. Это было так восхитительно, что у нее свело рот, блаженное, сладостное и в то же время мучительное ощущение; в ней вспыхнуло что-то вроде нежности к этому пирожку, какое-то ревнивое чувство, она уже тянула руку за другим и тут вдруг перехватила растерянный взгляд Тимми. «А что, папа не придет сегодня домой? Мы не будем сегодня обедать?» — спрашивал взгляд.
Но Тимми молчал. Потом его влажные губки раздвинулись, он взглянул на мать, та улыбнулась в ответ, ободряя его, утешая, пододвигая наманикюренными пальцами пирожок. И успокоенный, довольный, он улыбнулся ей блестящими от слюны губами. Они улыбались друг другу, как заговорщики, связанные некой тайной, поглотившей, захватившей их. Тимми поднес к губам пирожок и сказал:
— Он не сможет больше кидать в нашу машину камнями, теперь все заперто.
Аннет сказала, показывая липкими пальцами на еду:
— Ешь, деточка. Кушай. Кушай.
Перевод Е. Коротковой
Это случилось, когда мне было шестнадцать лет.
Я шла к шоссе по нашему проселку, и вдруг проехали двое мотоциклистов. Они были далеко, на шоссе; даже не взглянули, конечно, ни на меня — я шла по нашей грязной дороге, — ни на других ребят, которые уже топтались на перекрестке и дожидались школьного автобуса. Чего ради им на нас глядеть? Мы стоим тут каждый день и ждем автобуса от восьми до восьми двадцати, кучка деревенских ребят ничем не примечательного вида, только наши загоревшие лица так и бросаются в глаза сейчас, когда уже глухая осень. Все мы — нас тут человек семь или восемь — дожидаемся на этом перекрестке автобуса каждый будний день уже три года, с тех пор как закрыли нашу однокомнатную школу. Мы знаем друг друга как облупленных, и семьи каждого, и жизнь каждого, и дома, и фермы, и скучные ссоры, сплетни, скандалы и нескончаемые хворобы стариков. Я была тут самой старшей, потому что у нас в Орискани, когда мальчикам исполняется шестнадцать лет, они перестают ходить в школу; в этом году ушли из школы мои одноклассники и остались только их младшие братья, крикливые, ругливые, драчливые. Стоит нам переступить порог школы, как мы обе — Салли и я — со всех ног удираем от этой компании. Нам просто стыдно за них…
Ну да ладно, ну их, мальчишек; представьте себе клубы пара, при каждом слове вылетающие у нас изо рта, представьте Салли (бледное веснушчатое личико — Салли самая слабенькая из нас, у нее плохое сердце из-за ревматизма), сторонящуюся мальчишек, которые всегда дерутся, представьте себе их учебники прямо на земле и прислоненные к этим учебникам мешочки с завтраком… представьте и меня, но вы внутри меня, поэтому меня вы представить себе не можете. Представьте холодный ноябрьский рассвет и замирающий вдали рев мотоциклов, представьте себе телячий восторг мальчишек, глядящих вслед таинственным мотоциклистам в шлемах, которые несутся с ветерком к большому городу морозным ранним утром, — город расположен к северу, в шестидесяти милях от нас…
Вот появляется школьный автобус. Вы ведь знаете — он темно-желтый, мы еще издали замечаем его и смотрим, как он приближается по шоссе. Мы влезаем в автобус. Шофер — женщина в мужском комбинезоне — смотрит сонными глазами, будто только что проснулась. «Залезайте, залезайте», — говорит она, ее сердят двое замешкавшихся мальчишек. Мы обе — Салли и я — садимся рядом. В автобусе очень тепло, и мне вспоминается мое теплое местечко дома, за столом. Мы с ней мало разговариваем. Ей всего пятнадцать лет, а год разницы в нашем возрасте — это очень важно. Я чувствую себя более взрослой, более искушенной, более решительной и уверенной в себе… учебники Салли аккуратно обернуты бумагой, мои — истрепанные, грязные.
Автобус идет до школы двадцать минут. Это очень долго; он то и дело останавливается на дороге. Как мне удается ни о чем не думать, когда я езжу в школу по утрам, как я все это выношу? В автобус набивается все больше детей, там становится тесно, жарко, некоторые стоят прямо в проходе, прижав к себе учебники, дурачатся, хохочут, каждый год здесь появляются новенькие — одни робкие, другие развязные, — младшие сестры и братья тех, кто уже ездит нашим автобусом. Мальчишки пишут на запотевших стеклах неприличные слова. Да пусть их пишут все, что им угодно! А я думаю о… мотоциклистах. Я думаю о том, как они с ревом пронеслись мимо нашего перекрестка и никого не увидали. Меня как-то потянуло вслед за ними, и мне стало жутко, захватило дух: так бывает, когда высунешься слишком далеко из окна да еще и немного наклонишься. Мы живем в четверти мили от шоссе, к нашему дому ведет проселочная дорога, которая называется Речной. Многие дороги называются Речными; у них есть какие-то другие названия, но мы не знаем их… может быть, они написаны на картах, но мы ни разу в жизни не видели карт; все наши речки называются Грязная Речка, Большая Речка и все в таком же роде — как захотят, так и кличут… и лишь через несколько лет мне пришло в голову: а есть ли настоящее название у того места, где я живу, название, известное не только здешним? Есть оно на карте? И разглядывая эту карту, водя пальцем по тоненьким проселочным дорогам, останавливается ли кто-нибудь на пересечении этого шоссе и нашей Речной дороги? Четверть мили от шоссе — это ужасно далеко. Мне хотелось бы жить прямо на шоссе. Хотелось бы сидеть на крылечке и смотреть, как мимо проезжают люди на грузовиках, в автобусах дальнего следования, на мотоциклах, в автомобилях, — они проносятся перед рассветом каждое утро, люди без лиц… И ведь все едут на север! На север, в Дерби! Мне казалось, назад возвращается меньше народу, вероятно, некоторые там остаются.
Дома пошли погуще: мы выбираемся из деревни, въезжаем на городскую окраину. Не бог весть что за город, но для нас сгодится: деревенским ребятишкам Брокфорд кажется огромным, и на городских они взирают снизу вверх. Городские представляются нам существами высшего порядка. И взрослые там держатся уверенней, чем наши. Большое серое здание школы приближается к нам, и Салли выходит из дремотного состояния, ее ждет оживленная болтовня в школьном коридоре, знакомом еще по прошлому году, и городские ребята считают, что она «вполне ничего», особенно если учесть, где она живет. Интересно, что они обо мне думают? Мне всегда до смерти хочется знать, какого мнения обо мне несколько моих одноклассниц, но сегодня мне на них чихать, я прохожу мимо них по лестнице прямо к шкафчику для вещей и кладу туда учебники. Наконец-то! Мне попадается на глаза мой завтрак в истрепанном бумажном пакете, и я сворачиваю пакет покомпактней, чтобы он влез ко мне в карман. Что-то пробуждается во мне, что-то будоражит меня при мысли, что я здесь в полнейшей безопасности и вокруг все такое обыденное и предсказуемое: дверцы шкафчиков открываются и захлопываются — всегдашние привычные звуки, и дома, пока я еще не ушла, тоже всегдашние привычные звуки: пищит кошка — просится в дом, отец слушает последние известия в семь тридцать — он всегда их слушает задрав подбородок, будто хочет сквозь помехи разобрать что-то настоящее, какую-то истину… и все это, знакомое, воспринимается сейчас как сон, который мне приснился, я пробуждаюсь и без жалости покидаю это все, ухожу.