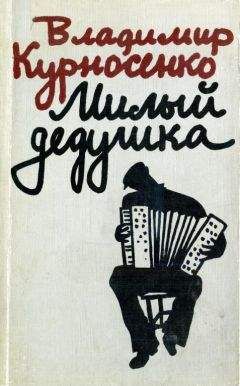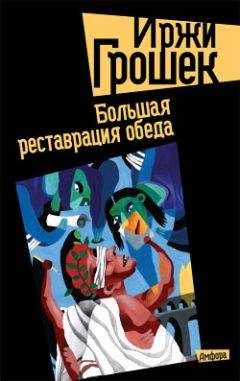А потом Славка вернулся, и на его дне рождения среди полублатной компании я увидел девушку неописуемой, смертной красоты. В разгар веселья Славка подошел ко мне и серьезно сказал: «Там эта, слушай… Олька… интересуется… ты как?» Я не ответил со страху, но на другой день снова притащился к Славке, бормоча что-то дяде Володе про обещанную «той девушке» книгу, и узнал — узнал то, что было нужно.
Она работала продавщицей в магазине для новобрачных, который в ту пору только появился в нашем городе.
Боком я приблизился к ее прилавку и неслышно поздоровался.
На разговор, на какую-нибудь легкую изящную шутку — как это, мне казалось, принято в таких случаях — сил у меня недостало. Одно мгновение, я видел, она колебалась еще между впечатлениями, тем — у Славки — и этим, новым, жалконьким, а потом, не сказав ни слова, фыркнула, и в прекрасных черных ее глазах опустились шторки.
Однако я промямлил свои заготовленные слова. «Назначил свидание».
Я взял у мамы десять рублей и пошел на него, на безнадежное и первое свое.
Разумеется, она не пришла.
Мы просидели десятку с Сашкой Лапушкиным в ресторане, где с паузами говорили о женщинах и курили.
Я делал новые попытки. Все было ясно, но я заболел. У нее были огромные черные глаза — мне некуда было деваться. Я таскался за ней по улицам, узнал ее кавалера, я состарился и поумнел.
Кавалер ее был вором. У него были мелко-кудрявые волосы и мягкие незаметные движения. Думаю, он смог бы задушить меня одной рукой.
Тетя Валя умерла от рака желудка. От Славки, считает моя мама.
— От рака, мама, от рака желудка! — говорю я.
— А рак от чего?
И она смотрит на меня, а я пожимаю плечами.
Бэмби живет у охранника в колонии, где сидел Славка. Его отдали туда, чтобы Славке было не так одиноко. Славка вышел, а Бэмби остался там навсегда.
После второго помета алфавитный принцип нарушился: щенков стали называть кто как хотел. И мы ничего не могли уже с этим поделать.
Человеку непокорно
Море синее одно,
И свободно, и просторно,
И приветливо оно.
Е. БаратынскийПомню: сад, сдали патанатомию… «Своею белою рукой, моя Оде-е-е-сса, ты помани, ты помани, ты по-ма-ни…» Под яблоней, в сторонке, детская коляска — там сын Бавильского. Сын спит, не мешает наша песня, песня из фильма «Цепная реакция». Бавильский супит белесые брови, топырит толстую нижнюю губу: «Свое-ю белою рукой, мо-я-а…» Когда-то, было дело, он учился в Одессе, в НМУ, низшее такое мореходное училище, да вот случилось — ушел. Теперь у него дом, семья, «лекции-шмекции» в медицинском институте, а в шкафу средь постельного белого белья застиранная до дыр старая его тельняшка. Моря, ясное дело, моря ему больше не видать… А для меня не все. Я, быть может, еще и увижу. В Одессе, в системе Азмор, работает стоматологом мой двоюродный брат Эрик. Четвертый, загибаю я пальцы, пятый, шестой курс, а там, глядишь, я и судовой врач: синее море, белый пароход и смуглые девушки в широкополых шляпах машут мне тонкими руками с Приморского, конечно, бульвара.
И проходит два года, и оттуда, из Одессы, от папиного брата дяди Вити — письмо: купите полдома!
Ты слышишь, Бавильский? Полдома в Аркадии, у самого моря, где в саду виноград и персики, где рыбачка Соня, и Гамбринус на Дерибасовской, и Беня Крик, и все-все, что вам угодно.
А?
Другого раза не будет — отцу в отставку, — и, поколебавшись, родители отправляют меня вперед.
…Поманила!!
Итак…
Итак, шел 19… год. В Одесском море нашли холерный вибрион. Выезд с побережья закрыт, и в разгар купального сезона я прибыл в знаменитый город в пустом вагоне.
Никто не купался.
Суда, завербованные карантинной службой, стояли на рейде, в них отбывали сроки отдыхающие, а по улицам, разгороженным веревками, поливальные машины брызгали на асфальт хлорамин.
Ко всему шел дождь.
В «нашей» половине — в той, что дядя Витя предлагал купить моим родителям, — на веранде, в сарайчиках, в садовых беседках — везде, где могла втиснуться раскладушка, жили квартиранты. По саду, чеша волосатые брюхи, бродили мужики в засученных трико, а во дворе женщины с грязным педикюром мыли под краном овощи.
Ничего, ничего, улыбался дядя Витя, скоро они уедут.
— Алексеич! — кричали из сараев. — Идем, тяпнешь!
— Не-е. Воскресенье!
В воскресенье дядя Витя не пьет. Он работает снабженцем на заводе шампанских вин и по воскресеньям отдыхает от всего этого.
Ну что ж, покамест не уехали квартиранты, меня поселили с Димкой, младшим дяди Витиным сыном. В беседке. С фанерных стен улыбались суперкинозвезды, Джина улыбалась Лоллобриджида, Димка тоже — жить было можно. Вот так, думал я, за тыщу километров живет брат, твой брат, под твоею живет фамилией, одногодок, двойник, можно сказать, — и «не ты»! Даже школьная кличка та же, даже ногти на мизинцах.
— А, брось, не бери в голову! — скалится Димка. — Оно тебе надо?
В Гамбринусе в самом деле играет красноносый толстячок в сером пиджаке. Скрипка в конце венгерского танца всхлипывает и неожиданно смеется по-человечески: «Хья-хья-хья…» Красиво одетые молодые люди кричат скрипачу: «Миша!» — хотя тому явно за пятьдесят, и суют в карман его пиджака бумажные деньги, а за соседним столиком сочный женский голос жалуется всем, кто желает его слышать: «Що ви з миня хотите? Я вже три дня не имела мусчину!»
Димка улыбается над кружкой: привыкай, это и есть Одесса.
Ну-ну.
В трамвае, по дороге в институт, у меня исчезает конверт с документами. В подкладке, у дна кармана — щель. Бритвой! Ровные краешки, аккуратная работа. Это меня обокрали, понимаю я. Так… И… как же теперь? Дальше? Перевод был в порядке исключения, шестой же курс, еле-был-елички. А если дубликаты документов не подпишут, не захотят больше?
Я тупо смотрю на страшную дыру. Меня тошнит. Да как вытащили-то? Ведь пиджак был застегнут! Они, выходит, тут надо мною… а я… я в окошко глядел?! Хорошо.
И вдруг ниже той дыры (господи, спаси!) я вижу еще одну дыру, такую же. Не думая, сую в нее руку до самых пиджачных недр, и — о справедливость, ты все-таки есть! — документы мои туточки, вот они! целенькие, беленькие, хоть и без конверта, но — все! До единого. У-у-ф-ф!
Вытащили, стало быть, поглядели и сунули назад. За ненадобностью. Не на пол, не в окно, а назад. Хоть и новый опять риск, хоть и «кому это надо».
Значит, это правда, думаю я.
Значит, правда — про Беню.
Привыкаю.
За обедом шампанское без газа. Приносил с работы дядя Витя.
Холерный вибрион, объяснял Эрик (тот самый, двоюродный, из системы Азмор), не выдерживает кислой среды. В кислой среде, по Эрику, вибриону приходит карачун.
Потому-то мы пьем шампанское без газа, кисленькое винцо.
И я пью.
Чтобы не терять золотое время, Эрик, помимо поглощения еды, занимается еще педагогикой.
— Вот вчера, — говорит он, — у меня был отгул, а я все равно ходил на работу. — Эрик смотрит на Димку: — Почему, думаешь? Потому что без работы — не могу!
Димка третий год сидит на третьем курсе, притом на вечернем. И это кошмар. Все понимают: кошмар, и не мешают сейчас Эрику. Кроме того, Эрика и вообще уважают. Помнят, как занимался он сам. Часами просто-таки, бывало. И теперь, пожалуйста — замглавврача по лечебной части. Хоть и стоматолог. Даже один раз встречал в составе группы правительственную делегацию.
Димка молчит над тарелкой. Ни слова.
Кира, жена Эрика, посмеивается. Ей смешно.
— Зачем, — обращается Эрик к матери, — зачем ты-то даешь ему рубчики?
— Вот именно! Ты-то зачем? — подхватывает дядя Витя. Он тоже чувствует за Димку ответственность.
Но тетя Зоя не отвечает. Собирает грязные тарелки со стола и уходит. Закончен обед.
— И ты слушаешь? — удивляюсь я Димке, когда мы лежим потом в нашей беседке. — Как тебе хватает-то?
Со стены надо мной улыбается красивая еще Лоллобриджида.
— А-а, пусть! — обреченно машет рукой Димка. — Нехай.
— Да и на фиг сдался тебе институт этот? Холодильные какие-то установки. Ты же футболист!
— Э нет, — серьезнеет Димка. — Диплом — это хлебная карточка! А футбол так… для души.
Дом наш в самом деле на крутом берегу. Внизу дорога в Аркадию, ниже ореховая рощица, а там, дальше, — каменистые пляжи, пустые сейчас. Отойди от края шагов десять: одно до самого горизонта море.
Начался учебный год. Старшие курсы снимали с занятий на борьбу с холерой. Меня и еще двух новичков послали бороться на рубероидный завод, в бригаду грузчиков.
— Ну и при чем же здесь холера? — спрашивал я Димку.
— А я знаю! — блестел он своими деснами. — Надо, вот и попросили у института под горячую руку. Тебе-то что? Плотют?