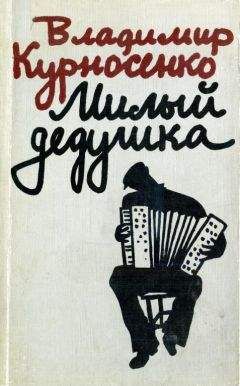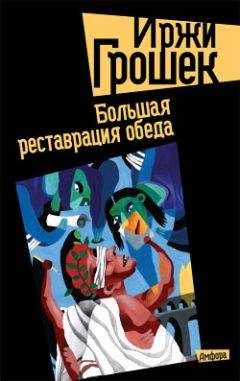АМУР И БЭМБИ
Бербель приносила щенков раз в два года.
На четвертый день, слепым, отец отрезал им хвосты ножницами, оставляя два позвонка, а Бербель зализывала ранки.
Щенки ползали по полу и пахли псиной нежно и приятно. К концу месяца тот, что родился первым, вставал на лапы и рычал; назавтра его забирали. Последнего же каждый раз мы собирались оставить себе.
В десять лет морда у Бербель поседела, как у дедушки незадолго до смерти, она стала бросаться на чужих, и отец, когда мы с Нинкой были на турбазе, отдал ее мужику с дальней станции охранять огород. Я догадывался, почему Бербель такая. За своими делами мы забывали ее выводить.
Мы вернулись с турбазы, и Нинка ревела, а я ринулся в клуб узнавать адрес мужика, но на станцию, где Бербель охраняла огород, я так и не поехал. Ко времени, о котором идет речь, я уже научился предавать.
Бербель мы привезли из Германии, с родословной, где были чемпионы мира и Европы. Местной чемпионке Люлю она стала соперницей в славе и любви.
Хозяин Люлю Зимаков гнал деньгу. Щенки были дорогие, и Люлю щенилась дважды в год. Еще Зимаков разводил черно-бурых лисиц. Клетки стояли у него прямо во дворе, лисы лаяли ночами и мешали соседям спать.
Когда в клубе выбирали новое правление, отец оказался единственным, кто голосовал против Зимакова. Я помню его одинокую руку над сплошным серым морем согласных. Зачем? — думал я тогда. Ведь все это липа. Поднимать руку, когда даже не спрашивают, почему ты против, — стыдно. Но рука отца торчала посреди как бы пустого зала.
«Большинство!» — сказал председатель.
…Мы идем по кладбищу. Мама, папа, Нинка и я. Сегодня родительский день, и на могиле дедушки мы покрасили оградку. У выхода с кладбища, у самой дороги — могила Зимакова. Вокруг нее ходит, выщипывает вылезающую травку постаревшая его жена.
— Сколько лет живет кладбище? — спрашиваю я у отца.
— Не знаю, — говорит он. — Не знаю, сынок.
Бербель была из второго помета. На «Б». Ее первые хозяева немцы хотели помнить всех, кто взял у них щенка. Алфавитный этот принцип попытались сохранить и мы.
Первым щенком в первом помете был Амур. Это он встал на четыре лапы и зарычал. Как и у Бербель, у него не поднялось до конца левое ухо и на груди росла белая шерсть. Его купили Макаровы…
Дядя Сережа работал в оперном театре танцовщиком, а с Сашкой мы сидели за одной партой. В общей квартире, где они жили, маленькую комнату занимала девушка Света. Она была стеснительной и некрасивой. Дядя Сережа говорил про нее: талантлива. При этом понижал голос — страшно!.. Вскоре Света вышла замуж за своего земляка, абхазца. Дети горских деревень считались способными к танцам, и их вербовали в балетные школы прямо на местах. Света и ее муж были из одной деревни. «Света пусть танцует, а я буду заниматься по общественной линии», — говорил муж. Его выбрали комсоргом театра. Потом Свету пригласили в Большой, и они уехали.
А лет через десять знаменитой примой она танцевала в нашем городе Жизель, и я увидел, как поет ее развившееся, прекрасное тело — виолончельный голос — о несбывшейся любви. Ведь я знал, что Света не любила мужа-комсорга.
Макаровы переехали в Свердловск — дядя Сережа танцевал там балетные партии в оперетте. Приходили открытки про Сашку и про Амура с приветом Бербель и мне. Мы увиделись еще раз — театр дяди Сережи гастролировал у нас, и про одну его артистку дядя Сережа сказал с понижением голоса: талантлива. Потом это оказалась Шмыга, но я уже не удивился.
С Сашкой мы сидели за одной партой. На него не «тянули» наши второгодники, ему улыбались учителя — Сашка всем нравился; и мне тоже. Подушечки на его пальцах Зяма Бейнихес объявил лучшими в нашем дворе для игры на скрипке, а наш сумасшедший учитель пения отобрал его в хор первым. Мы стояли шеренгой, у Сашки был хриплый раздвоенный голос, я был уверен, что его не возьмут, но учитель шел мимо меня, возвращался, прислушивался (я знал все слова, я хотел) и уходил от меня, слушал Сашку, кивал и брал его в хор.
На уроке алгебры я засунул голову в парту — подремать от скуки, но когда попытался вытащить назад, у меня не получилось. Это был позор. Сашка тянул меня за плечи и честно старался не смеяться. Нина Павловна, любимая учительница, тряслась толстым животом на своем стуле, а с задних парт поднималась уже на помощь Сашке усатая классная шпана. Урок был сорван. Я освободился сам, случайно повернув голову в нужное положение. Шея моя горела от ссадин, но заставить себя смеяться со всеми я так и не сумел. Года через три классные девочки вспоминали этот случай, только будто голову в парту засунул Сашка, а не я. Сашка жил уже в Свердловске, и я утаил истину. Тогда я понял: нас воспринимали с Сашкой как что-то похожее, живущее вместе, одно. Я понял, что память людей не совсем надежная вещь и что во многом картина мира зависит от собственной твоей искренности.
На литературном вечере в седьмом классе мы играли с Сашкой сцену из «Школы» Аркадия Гайдара. Я был главным героем, которого в кино играл Леонид Харитонов, а Сашка — «кадетом», пытавшимся вероломно меня обмануть. Сашка вероломно ударил меня поленом по голове, я упал и приходил в себя, чтобы потом выстрелить из маузера в завладевшего моим планшетом Сашку. Маузер был большой, в натуральную величину, с рифленой ручкой, лакированный — его делал отец, а штаны шила мама — махонькие кармашки на замочках-молниях. Выходя на сцену, я с трудом запихал маузер в карман. Упав от Сашкиного полена — в зале смеялись — и полежав немного для натуральности, я на пробу, незаметно для зрителей потянул рукоятку на себя. Маузер не доставался. Я полежал еще. И еще потянул. Маузер не доставался. Рука только подтягивала кверху правую штанину. Неужели опять? — думал я, переживший трагедию с партой. Я мучился, обмирая и потея холодным потом на полу, а Сашка стоял спиной к залу и играл паузу как мог. Переваливался с ноги на ногу, выкладывал на лавку вещи из планшета, изучал карту, застегивал лямку у вещмешка, «готовясь к трудному переходу», напевал даже для естественности какую-то печальную, как бы белогвардейскую песню, а я все царапал руку о мамину молнию, и черный туман временами застилал уже мне глаза. Наконец, опять — как и голова из парты — случайно, маузер выскочил, и я «выстрелил» дрожащей рукой. Зал вздохнул, а Сашка грохнулся на пол замертво, руки его разлетелись, как у борцовского чучела после броска через бедро, а правая кисть, присогнувшись напоследок, как у Плисецкой в «Умирающем лебеде», словно б подтвердила лишний раз Сашкино безнатужное надо мной превосходство. Я походил вокруг него со своим маузером — мне казалось, он смеется, может быть, — и, так ничего и не поняв, ушел наконец со сцены. Навсегда…
Сашка же, честное слово, стал настоящим драматическим артистом. Недавно тетя Валя писала маме, что в одном из спектаклей его партнершей была сама Элина Быстрицкая.
Вот такой щенок был Амур.
Последним во втором помете был Бэмби. Он родился тигровым, что ужасная редкость, и мама соглашалась его оставить для нас: пусть бы у нас было две собаки. Но отец выдержал, и Бэмби купили родители Славки Проворова.
Дядя Володя работал машинистом, а тетя Валя (тоже тетя Валя) комендантом в молодежном рабочем общежитии. Она была нервная и, когда ругалась на Славку, шипела, как гусыня.
Однажды дядя Володя посадил нас со Славкой в тепловоз, и мы поехали в Курган к моему деду Протасу Матвеевичу. Там, в Кургане, Славка встретил своего приятеля Женьку, тоже, как и он, пловца, и на Тоболе, на пляже, они при мне познакомились с девочкой, похожей на гуттаперчевую статуэтку. Маленькая, она натягивала на светлые свои кудряшки резиновую шапочку и кричала им: «Айда купаться!» И они плавали втроем, три молодых дельфина, и Славка с Женькой под предлогом игры трогали ее под водой. Я следил за ними, у меня сохло во рту, и было печально, будто скоро умирать.
Один раз я осмелился и подплыл к ним, но гуттаперчевая девочка выплюнула воду и сказала: «А ты куда, малолетка?»
Дедушке Славка не понравился, и тот действительно через два года попал в тюрьму. «Нападение на водителя такси». Групповое. Шофер следил за ними в зеркало и успел выскочить, когда сзади его попытались оглушить. Славка сел за руль — он единственный умел водить машину — и вел ее несколько километров, пока не съехал на обочину: навстречу шел милицейский «газик».
На суд его ввели с бритой головой. На ней были видны веснушки. Тетя Валя закричала на весь зал, как резаная, а меня вывели, поскольку мне не исполнилось еще шестнадцати лет.
С дядей Володей и тетей Валей мы ездили потом в колонию, и при встрече Славка поцеловал меня. Я понял, что настоящая взрослая жизнь уже началась.
Славка вышел «по одной второй», через три года, и родители сразу же устроили его в армию, чтобы оторвать от старых друзей. Провожали — пели. «И ранней порой блеснет за кормой…» И дядя Володя, и Славка, и тетя Валя тоже.