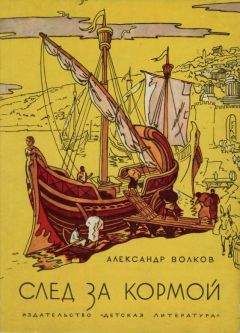Хлеб он принял. Махорку тоже. А от мятой красной тридцатки, которую Костя, смущаясь, протянул ему, отказался. Грех это, сказал он, брать деньги с гостей. Если возьмет, его сыну будет плохо на том свете.
Потом они уехали.
И договорились, что ночевать постараются где-нибудь подальше, а в Старореченской только покормят лошадей и сами погреются. Старик, провожая их, объяснил, что тут считают кто — двенадцать, кто — пятнадцать верст.
Была та же дорога, только день выдался помягче, и они следили, чтобы не сбиться, и до Старореченской докатили быстро. Погреться их приютила пожилая говорливая женщина, и пока Буян со Стрелкой хрумтели овсом, хозяйка выкладывала новости, о чем утром хрипела черная тарелка репродуктора — наши ликвидировали какую-то фрицевскую группировку, а скоро уже — и сам Берлин... Ж что картошка у них в станице под это дело вроде бы дешевле стала продаваться...
— А ты чего, неесаловская родом?— повернулась она вдруг к Гале.— С Озерновского совхозу?
— Оттуда я...
— Ой, чего тут у нас вчерась было!
Сам не понимая почему, Костя замер от предчувствия какой-то неотвратимой беды.
Хозяйка, правда, сама при том не присутствовала, корову водила к ветфельдшеру. Ей рассказала соседка, но такая, что врать не врет. Возле чайной на площади днем остановилась совхозная озерновская полуторка. Шофер пошел чайку попить, а директор с ним был, так тот отправился в райком, о чем-то там договариваться. А Мишка этот,— шофера, значит, Мишкой зовут, его тут все знают,— пьет чай и видит в окно: прокеросиненное в кузове у него сено вдруг занялось пламенем! День-то был ветряной, искру какую занесло — и сразу. Кинулся он, борта пооткрывал, хотел бочки раскидать, И его самого прихватило. Кое-как он машину все ж таки завел. Бочки рассыпались. А на ем на самом и телогрейка, и штаны ватные пылают, как тот факел. По снегу катался, потом его одна хваткая — не растерялась — баба тулупом накрыла. Сбили огонь. Но обгорел этот Мишка порядком. В больницу его свезли.
Костя случайно взглянул на Галю.
Красное, незамерзшее ее лицо было белым, как побеленная недавно грубка.
— Живой?— с трудом прошептала она.
— Вчерась, бают, был живой.
Потом Галя, как-то утробно, нечеловечески вскрикнув, бежала по длинной прямой улице к больнице. А Костина рана на ноге мешала ему поспевать за ней, и когда он наконец очутился на широком дворе, поднялся, скользя, по обледенелым ступенькам — в приемном покое Галя, одетая, лежала на кушетке, и глаза у нее были закрыты. В комнате остро пахло валерьянкой, и над Галей склонилась невысокая женщина в белом халате и сером пуховом платке.
— Что с ним?— не успев отдышаться, спросил Костя, хотя можно было, кажется, и не спрашивать.
Молодая врачиха не оборачиваясь ответила:
— Третьей степени ожог... Ничего нельзя было.
— А е ней?
— Сейчас. Придет в себя. Истерика... Я так поняла — у них любовь была.
— У них?
— Она кричала — какой-то ее фронтовой друг, жених, давно уже прислал письмо: не жди, не надейся... А Миша хоть и улыбался многим, и балагурил со всеми, а только с ней бывал. Они собирались, как война кончится, пожениться. Вы подождите в соседней комнате. Ее надо раздеть и уложить хотя бы на день. Уж, конечно, сегодня ей никуда нельзя ехать.
Костя вышел в пустой коридор и сел на скамейку.
Это было хорошо знакомое, к сожалению, чувство непоправимости. Вот ведь... Мишка считал, что ихний Степан погиб в сорок третьем, и сам аж зубами скрежетал, так на фронт рвался. А Степан сейчас считает, что Мишке в глухом тылу ничего и грозить не может, что он живой и здоровый и что Костя как снег на голову передаст ему привет вроде бы с того света, как только приедет в Неесаловку.
Костя понимал: Галя отлежится, и они с ней приедут в Неесаловку, но для него эта зимняя дорога теперь никогда не кончится. И этот безымянный старик казах, приютивший их на ночь, и Галя со своим горем, и погибший далеко от фронта, но фронтовой смертью Мишка Афонин — все они, как и многие, многие другие, стали его неразлучными спутниками.
И еще он знал — он когда-нибудь расскажет о них.
В Баладжарах поезд стоял долго.
Костя считал шаги — от закрытого газетного киоска до косматого тутового дерева. Сто тринадцать. А в другой раз получалось сто семь. Подошел и зашагал рядом старший лейтенант, танкист, который ехал с ним в одном вагоне. Верхние пуговицы кителя у него были расстегнуты, к самому кадыку подходил светло-розовый рубец шрама. Насквозь мокрым платком он вытирал лицо.
— Да, не сказал бы, что холодно,— поделился он с Костей своим открытием,— В вагоне не лучше, чем в танке на солнцепеке. А почему стоим?
— Баку-пассажирская почему-то не принимает.
Костю злила эта последняя задержка. Сколько раз он представлял себе, как приедет когда-нибудь в Баку, и сейчас он уже готов выйти на привокзальную площадь. Она не будет погружена в темноту, как в сорок втором, и никому не придет в голову замазывать стекла в трамвае синей краской. А интересно — третий ходит по тому же маршруту или нет? Но что с того, куда ходит третий. В Баку теперь нет такого трамвая, который бы привез его домой.
— У тебя в Баку родные?
— Нет,— отрывисто сказал он.
Возможно, это прозвучало грубовато. Но если бы он сказал иначе, то пришлось бы долго объяснять, долго рассказывать про свою жизнь. В квартире, где он родился и вырос, живет кто-то другой, стоят чужие, незнакомые вещи. Нет, должно быть, цветов на широких подоконниках — китайской розы, пальмы. Пальму отец принес в горшочке, а потом пришлось покупать кадку и пересаживать. Пальма вытянулась под потолок. Отец поливал ее утром, перед уходом на работу. Случалось, вода протекала, на паркетном полу белели предательские пятна, и мать сердилась.
— Ты чего улыбаешься?..— Оказывается, старший лейтенант по-прежнему шел рядом.
— Эх, старлей!— не выдержал все же Костя.— Знаешь, ведь я же бакинец. И с начала войны тут не был.
— Друзей, значит, много?
— Не знаю, кого застану. Война всех поразбросала.
— А у меня жена и дочка в Тбилиси. Дочке уже семь, восьмой. Она без меня родилась, в декабре сорок первого. Вот, еду. Получено разрешение, чтобы наши офицеры в Германии позабирали семьи. А то сколько же можно — врозь и врозь!
Застоявшийся паровоз протяжно закричал. Через сорок минут Баку! Лязгнули буфера, по колесам прошел стон.
Костя остался в тамбуре. Душный ветер врывался в открытую дверь. Стемнело быстро, как всегда темнеет на юге. Желтые пятна окон неслись по земле. Костя высунулся, и его тень помчалась рядом с вагоном. Впереди было много огней. Они переливалась и мерцали, как искры в золе прогорающего костра.
Промелькнули и остались позади Кишлы, Поезд шел уже через Черный город. Заводы, заводы,,. А ведь воздух здесь действительно припахивает нефтью, как же он раньше не замечал. Промелькнула гирлянда разноцветных огней в парке культуры «Роте фане». Часто кричал паровоз, и его выкрики заставляли сердце биться в тревожном и радостном ожидании,
Костя сходил в купе за чемоданом, Вровень с тамбуром потянулся перрон. Не дожидаясь, когда поезд совсем остановится, Костя перешагнул на платформу. Он успел первым в камеру хранения, до того, как там образовалась очередь.
В вокзале все оставалось по-старому, к мраморная лестница вела в ресторан, он был открыт, сверху доносилась музыка. На освещенной лампионами площади звучала напевная азербайджанская речь. Костя сперва в уме составил нехитрую фразу.
— Трамвай нёмрэли уч хара гэлир? (Куда идет третий номер трамвая? (азерб.)).— спросил он проходившего мимо пожилого азербайджанца в мягком чесучовом костюме.
Тот охотно ответил. Костя не понял, но кивнул и пошел по направлению к скверу, где прежде останавливался и третий, и другие номера.
По дороге попалась телефонная будка. А что, если вот так, наугад, позвонить по старым телефонам? Костя вытащил мелочь и под фонарем нашел три пятиалтынных. Первым он набрал Левку Ольшевского. Ему ответил мужчина, но не Левкин отец. Левкиного отца он узнал бы. «Вы очень отстали от жизни, молодой человек. Ольшевские тут давно не живут». А если к Володьке?.. Что из того, что они когда-то были оба влюблены в Марину, отчаянно ревновали ее друг к другу? Все это было очень давно. И не звонить, а просто ехать.
Трамвайной линии вообще не оказалось возле сквера. Костя вскочил в подошедший троллейбус. Он помнил, что Телефонная очень длинная улица, и было странно, как быстро ее проехали. Он сошел у кинотеатра «Форум»и вернулся немного назад, к угловому пятиэтажному дому. Поднялся на третий. После стольких лет, после стольких перемен в его жизни — и на своем месте желтая латунная табличка с гравировкой: «Николай Семеновичъ Васильевъ», так, с твердыми знаками в конце слов, с ятем.