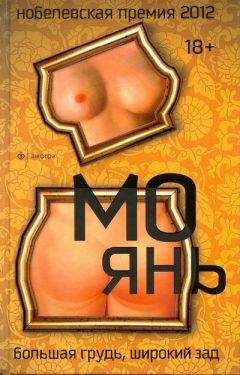– Убедил, – говорю, – Васёк. Теперь ты нашёл – давай теряй. Твоя очередь.
– А я потеряю. Я потеряю, Володя. Прямо с получки.
Мы – хором:
– Вот бы найти!
Приносят горячее: с горошком, с жареной картошечкой.
Я говорю:
– Как найду – идем в ресторан.
Колюня:
– В Метрополь.
Серёга:
– В Националь.
Полуторка:
– В Пекин.
Иван:
– Мужики, это еще что за фрукт?..
А за окном бабка торчит на тротуаре, та самая, из магазина, и с ней сержант на мотоцикле. Она ему пальцем в нас тычет, объясняет. А мы сидим на самом виду, будто напоказ, и мясо на вилке.
– Ну, – говорю, – Васёк, счас ты у нас загорать будешь.
– Чаво это – загорать? Всё путём.
– Чаво, чаво – ничаво... Надо было тебе, дураку, в шашлычную лезть?
А сержант уже в дверь заходит – и к столику:
– Извиняюсь, – говорит, – приятного аппетита. Это вы, граждане, деньги находили?
– Мы, – говорит Полуторка. – Я, то-есть.
– Попрошу со мной в отделение.
– Это еще зачем?
– Акт составим. Деньги изымем. Потерявшему отдадим. Как положено.
– Нет его, потерявшего. Я спрашивал.
– Тогда государству пойдут.
– Сержант, – говорю, – всё законно. Государству и пошли. Государство – это мы.
Тут он удивился, глаза разинул:
– Кто тебе сказал?!
– Кто-то сказал, – говорю. – А кто – не помню.
– Ошибаешься, – говорит. – Государство – это мы.
– Я и говорю – мы.
А он:
– Это я говорю – мы, а не ты. Усёк разницу?
– Усёк.
– Попрошу в отделение!
Тут официант подходит:
– Счет подавать?
– Какой тебе счёт?
– За ужин. 27 рублей 18 копеек.
– Да мы ж еще не ели!
– Ешьте. Я подожду.
И встал рядом. На страже.
Слово за слово – сержант увел Полуторку, а мы вчетвером остались. Чего делать – неизвестно. У Серёги с Иваном пятак на метро, у Колюни талончик на автобус, у меня – пуговица...
– Вот бы, – говорю, – найти чего. Вот бы не помешало.
А Колюня:
– Хватит уже. Нашли.
Еле упросили официанта, чтобы часы мои взял. Под залог. И паспорт. Уж под это дело всё сожрали, упились в дым – еле на улицу выползли.
Глядим – Полуторка топает. Голову повесил, будто ищет чего.
– Васёк, – говорим, – сколько денег-то было?
– 28 рублей.
– В аккурат, – говорит Серёга. – На столько и сожрано.
– Хорошо посидели, – говорит Колюня. – Культурненько.
– Вот бы еще, – говорит Иван. – Я бы не прочь.
– Ребяты! – запел. – Завтра еще найдём. Помяните моё слово...
– Ты, – говорю, – придурошный. Ты, – говорю, – враг народа. Тебя, – говорю, – к людям подпускать нельзя. Заманиваешь невесть куда, а люди потом без часов остаются!
– Володя! Друг! Обижаешь! Кабы не я – хрен ба чего было. Ни находки, ни радости... А часы твои – тьфу! Всё одно бы пропил. А так хоть с радостью.
– Придурок прав, – говорит Колюня.
И все за ним:
– Прав придурок.
А он стоит, лыбится – рот до ушей.
За ним – я.
За мной – Колюня.
За Колюней – Серёга с Иваном.
Из дурака и плач смехом идёт.
КТО ЕСТЬ КТО
или снова
КОГО ЗА ЧТО
Мишка-хват: молодой, поджарый красавец, длиннорукий и длинноногий, рыжеватый и кучерявый, гибкий как хлыст, глаза шальные, нараспашку, взглянешь – а там черт-те чего: бесы скачут, девки плачут, парни скулы воротят. По вечерам ждал с нетерпением новую партию: старые давно уж надоели, орал с нары весело и бесшабашно: "Ништо, мужики! Это всё нехуть! Ильич тоже поначалу пятнадцать суток сидел…”
Болтал что попало: понесёт – не остановишь. Где правда, где вранье – пойди угадай. Про баб, про девок, про мужиков с ишаками, про ишаков с мужиками: кто с кем, кто чем, да как, да куда, да сколько раз. Камера уши развесит, камера ухает от удовольствия, а он несет себе да несет. "Я, мужики, везде побывал. В дурдоме, в тюрьме, в лагере, на химии”. "Когда это ты успел?" "А тогда... У меня, мужики, три пацана. Я их всех в лагере сделал". "Как так?" "А так. Нинка приедет, спирту привезёт. Мне за спирт начальник кабинет давал. На ночь. Сами голые, на голой клеенке, под портретами вождей. Мы стараемся, вожди сверху смотрят, на плакате призыв: "Верным путем идете, товарищи!" Утром меня в зону, а Нинка домой едет, рожать". Камера ему: "Врешь! Ну, врёшь!"
Он по-новой: "У меня Нинка, мужики, баба-ягода. У нее зад двуспальный. Увидал ее узбек на рынке, домой пришел, у двери на колени встал: "Выходи за меня, в Ташкент поедем. Денег много, фруктов много. Вдвоем торговать станем". Я вышел с молотком, дал ему по черепу: он и отрубился. Лежит, а из кармана червонцы выглядывают: пачка, что твой кирпич. Через час оклемался, обратно на рынок ушел, дынями торговать". Камера хором: "А червонцы?!" "Я не взял". "Врет! Ох и врет!" Врет – не врет, а слушать интересно. Врет – не врет, а время бежит скоро.
Вот он опять за свое: "Я, мужики, баб перепробовал – не поверите! На Дальнем Востоке с якуткой жил. В спальном мешке. Утром на работу, а мешок на молнию: пусть лежит, дожидается. Вечером ворочусь, нырк к ней, а она тепленькая... Муж через неделю хватился, с ружьем за мной бегал. "Убью! – орет. – Одной дробиной в глаз, чтоб не портить шкуру!" Потом пообвык, – куда денешься? – сказал на прощанье: "Приезжай давай. Втроём жить будем. В одном мешке". Камера орет: "Врешь! Врееешь!" "Вру – не вру, соврите лучше. Я, мужики, с цыганкой на мельнице гужевался. Прямо в муке. Верткая такая, гибучая: одни мониста на ней. Дзынь-дзынь – позванивают. Я ей: "Дашь – бери мешок с мукой. Еще дашь – еще мешок". Бой в Крыму, Крым в муке... Мельница гудит, мука летит, цыгане из табора мешки оттаскивают!" А камера: "Больно дорого платил. Мешок за раз". "Мне что? Мука не моя". "Врешь! Ай, врешь!" "Вру – не вру, соврите лучше".
И опять: "Я, мужики, Нинку свою бросил, к Шурке ушел. Пожил месяц – дохлое дело, пора назад, Я и воротился. А Шурка прибегает к Нинке – и с кулаками: "Где он? Где да где?!" А я где? Я на голубятне, с двумя девками. А на голубятне, мужики, благодать! Ветерок продувает, пух летит, девки гулькают, голубочки вспархивают. Потом девки вспархивают, я гулькаю... Тут они меня и застукали, Нинка с Шуркой, они и заявление в четыре руки написали, милицию дружно вызвали. Нарушение общественного порядка на голубятне: мне – пятнадцать суток, девкам по десять". Помолчал, пощурился, добавил: "Тут я, конечно, сам виноват. Но Нинку свою накажу. Ворочусь – месяц с ней спать не буду”. "А с Шуркой?" "И с Шуркой – месяц”. Все: "Врешь! Врееешь!" "Вру, – улыбался. – Разве утерпишь?"
Сидел он вечно на наре, ноги по-турецки, вокруг – слушателей десяток. Легкий, пустой, звонкий парень, Мишка-хват, балабол, язык без костей. Всё просто, всё весело... А однажды рассказал вот что: "Вызвали нас, мужики, в одно место. Не соврать, человек семьдесят. Только я из армии пришел. Предложили идти в органы, топтунами: деньги хорошие, работа непыльная, то-сё. Из семидесяти согласились двое. Да и кто к ним пойдёт? Кто работать не умеет – те туда". "А ты чего ж?" "Перебьются. Лучше мясо воровать, чем людей сторожить". С этим все согласились. Вся камера. Воровать – это нормально. Сторожить – последнее дело.
Колобок-матерщинник лет под 30: омерзительный с виду, лицо кошачье, сальное, будто жирком смазанное, усы торчком вокруг пухлой губы, редкие волосы зачесаны набок со старательным пробором, залысины на висках, плешь на затылке, зуб золотой, зуб металлический, и неожиданно печальные, тоскующие глаза, запрятавшиеся глубоко в провалах. В углу, на нижней наре, их залегала целая компания. С наслаждением и шумом портили и без того порченый воздух, гоготали, соревнуясь, кто громче, кто дольше, кто выразительнее, порой выскакивали очумело из-под нары, удирая от собственной вони. Сколько их материли, сколько упрашивали – всё без толку. После ужина уползали на свою нару, пятками упирались в верхнюю – и пошло!
Колобка-матерщинника посадил отец, "папашка-топтун на пенсии". "Всю жизнь, гад, под чужими окнами стоял, в щели подглядывал, а теперь жить учит". По воскресеньям они пьют вместе, а, выпив, ругаются из-за Сталина, которого папашка боготворит, а сын материт без устали. У папашки на склоне лет одни вздохи: при великом вожде паек был, зарплата, выслуга, премиальные, северные, наградные к праздникам: ты только служи честно, тебе всё будет. "Я об его лысину четыре стула обломал, а он всё за Сталина держится”. И захохочет, заверещит тоненько, жирненько, мерзким упитанным смешком. И матом, сплошным матом без передышки. А глаза на лице не смеются, глаза печальные, вопрошающие, без надежды на ответ.
Работает колобок на санитарной машине, халтурит между делом. "Останавливает меня грузин с бабой: давай, говорит, за четвертной три круга по Садовому кольцу. Давай, говорю. А куда ему три круга, ему и один не продержаться. Я себе фары включил, сирену врубил, жму посередке на красный свет, а они там, в фургоне, на носилках забавляются. Круг, ору, еще круг, всё – приехали! Кольца одного не прокрутили, а он уже спёкся. Лежит – не дышит, хоть в больницу вези”. И опять с хохотком, с матерком, с бесстыдной порчей воздуха.