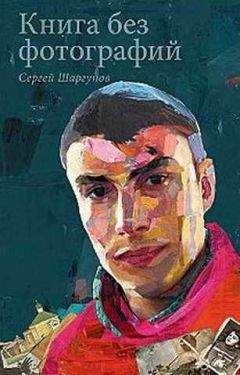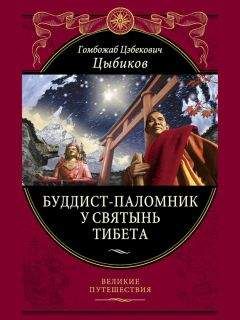— Малой, чего шумишь? — и дальше проваливался в сон.
Какой он мне дядя?
Коля и мой папа росли вместе. Мать была сестрой моего деда (в девичестве Шаргунова). Всех четверых ее братьев перебило в войне. И ее мужа убило в первые месяцы войны, крестьянского парня, от которого остался младенец и смешная фамилия Болбас, похожая на мужицкое пузо, выросшее у этого младенца спустя многие годы. Вдовая мать Коли приютила мою бабушку, тоже вдову, с тремя детьми, в уральском Еткуле, куда те перебрались из вятской деревни. Колина мать работала продавщицей в магазине, моя бабушка устроилась кастеляншей при гостинице.
Моя бабушка и познакомила Колю с будущей его женой, оренбургской девушкой, остановившейся в той гостинице. Колина местная девчонка не пошла с ним в кино, и моя бабушка ему подсунула свою постоялицу. Они смотрели «Летят журавли». Он проводил ее до гостиницы и на следующее утро пришел за ней снова. От прежней девочки отвернулся, а в новую так вцепился, что пришлось ей вскоре проститься с Оренбургом — сыграли свадьбу через месяц после знакомства.
Анна, так звали Колину жену, по профессии швея, темненькая, веселая и простосердечная пышечка приехала к нам вместе с ним перед тем, как им улететь на Кубу. Мне было семь лет. Из серого промышленного Орска к синему Океану страна посылала Колю: строить завод. В Орске оставалась взрослая дочь.
Аня часто вспоминала историю знакомства с Колей. Он с мягкой иронией и нежной улыбочкой поддерживал воспоминания. «Как хорошо у нас все начиналось! В кино водил и на обратном пути песни мурлыкал. Все песни наизусть мне споешь, какие только есть, пока гуляем. Дотемна гуляли. А как ты у меня первый поцелуй вымаливал?
На колени встал! Чего смеешься? А как умолял за тебя пойти? Говорил: будешь, Анюта, в меду купаться, я все за тебя сам делать буду, живи со мной и радуй, что ты есть такая. Говорил? Правильно, киваешь. А как узнал ты, что я Танюшку жду, так до потолка целый час прыгал, соседи милицию вызвали, думали, драка».
Каждый вечер и каждое утро те дни, что Болбасы гостили, повторялось одно и то же: я со всей дури вонзал кулачок дяде Коле в толстый живот, точно бы надеясь выпустить оттуда воздух.
Тетя Аня корила меня встревоженно, но все равно по утрам и вечерам пузо выкатывалось посреди комнаты. Дядя храбрился: «Давай, тузи! Думаешь, боюсь? Это у меня не жир, это пресс!». Я медлил, он, равнодушно позевывая, бормотал: «Ну, давай, убивай, не томи», и хныкал вроде бы в шутку, а я, отвернувшись или заговорив о постороннем, вдруг с размаху бил.
Болбас морщился.
— Живой? — спрашивала жена обеспокоенно.
— В порядке.
— Правильно Сережа делает: давно пора худеть, на кого похож!
— Я в молодости крест на кольцах держал, — посмеиваясь, он оглаживал брюхо, лицо прояснялось: детская экзекуция была пройдена.
Он вообще говорил негромко, посмеиваясь. Зачем повышать голос, когда есть большущее тело?
— Дядя Коля, а как на заводе? — спросил я.
— Нормально. Хочешь на завод?
— Ага.
— Так сразу туда и не зайдешь, — и он начал излагать в своей неторопливой, чуть насмешливой манере. — Подготовка нужна. Вот космонавтов к полету готовят, так и к заводу надо готовиться. В драках побывать стенка на стенку, на крыше поезда прокатиться, в лесу медведя встретить и убежать целехоньким. Что еще? — сложил губы и слегка подул как-то и пренебрежительно, и деликатно, точно на пушинку. — Ну и знать, как с техникой обращаются.
— А ты все это видел?
— Испытал. Ты папашу своего расспроси. Он ведь тоже у тебя заводчанин. После суворовского училища на заводе сталь лил. Это потом стихи стал печатать и в Москву перебрался, и в Бога уверовал.
— А ты завод любишь?
— Нормально. Трудно, но я без работы не могу. Робяты меня любят.
— Роботы?
— Ребята. Товарищи мои. Народу много. Жарища, духота. Грохот. Искры летят. Я и говорю тебе: сызмальства надо к такому готовиться. У меня друг зазевался и ему руку оттяпало.
— Как это оттяпало?
— По плечо, — невозмутимо сказал Болбас и колыхнул здоровенным плечом. — В Крым путевку дали, а толку-то. Новая не вырастет.
Надо же было такому случиться, что в тот же день я поехал с тетей Аней на рынок на троллейбусе, сидел у входа, вертелся, махал руками, и распахнувшейся дверцей мне прихлопнуло правую кисть. Больно прижало. Не вырвешься. Может быть, это было воздаяние за кулак, таранивший родственное брюхо?
Тетя Аня запричитала, бросилась к кабине, двери сомкнулись, забранились входящие и выходящие, но рука была освобождена.
— Не балуй! — сказала тетя Аня, прощупывая мне костяшки пальцев. — Живой?
— Это не я. Это он водить не умеет. — Я показал в сторону кабины. — Деревенщина!
— Что? — Она отшатнулась.
— А что? — Увидев выражение ее лица, я испугался больше, чем когда меня прихлопнуло железной створкой.
— Деревенщина… — Протянула она. — А ты там был?
— Где там? — Спросил я голосом раненого.
— Где, где… Где отец твой родился. Откуда дядя Коля. Откуда все наши. Никогда не говори так: «деревенщина», понял?
Я кивнул, стыдясь пассажиров вокруг и вообразив, что сказал что-то совсем ужасное.
— Вот брошу тебя сейчас. Счастливого пути, горожанин!
— Не бросай!
Троллейбус остановился. Тенью, не чувствуя ушиба, я выскользнул за ней.
— На рынок идем. А рынок это что? Это и есть деревенщина… Много деревню обижали. Вот и ты обидел. А деревня и сейчас поит, кормит, молоко дает, масло, сыр, творог, мясо. Откуда это думаешь?
— Яблоки, груши, тыква… — бойко подхватил я, пытаясь загладить вину. — Фейхоа!
— Фейхоа другая деревня дает, не русская. Но тоже деревня. Как рука? Прошла, балбес? — По ее интонации я понял, что прощен.
Странная вещь: минуло больше двадцати лет, а меня и сейчас ознобно плющит, если услышу небрежное «деревенщина», снисходительное «деревня». Столбенею и кривится нервно щека, и начинает ныть правая рука — потому что нельзя, невозможно, под запретом. Иначе тетя Аня Болбас бросит в троллейбусе среди города.
В сущности, это были святые люди, Коля и Аня, ни разу друг другу не изменившие и не испытавшие порыва изменить, как оба мне по отдельности, уже взрослому, поведали. На темпераментной Кубе ничто не пошатнуло их добродетельный союз.
Зато Коля пил много рома с соотечественниками, а также неграми и латиносами, и выучил несколько тамошних песен, которые горланили, обнявшись, и он забавно переиначивал на русский лад — получался нелепый набор слов в стиле футуриста, но слова история не сохранила. По праздникам с Кубы приходили поздравления: помню шершавую голограмму: обезьянка, попугай и кокос плясали, если двигать открыткой туда-сюда, еще помню вложенную в конверт фотографию — побережье с высоты самолета, место жительства Болбасов и близкое место трудов дяди Коли были авторучкой отмечены крестиками.
Болбасы улетели в 87-м, прилетели в 90-м. Они привезли ананасы и кокосы, въевшееся в кожу солнце и веру в то, что жизнь пошла в гору. Ведь за годы работы дядя Коля получил порядочное количество сертификатов, и теперь можно было купить и новую квартиру, и машину, и дочке помочь. Из кубинских впечатлений тетя Аня не могла забыть «кукарача» — поразивших ее крупных летающих тараканов. Дядя Коля спел парочку кубинских, переделанных им по-русски песен, а утром отправился на митинг на Манежную площадь, видел Ельцина, вернулся с кипой газет, и до ночи Болбасы просидели с родителями, увлеченные разговором. Дядя Коля обещал моему отцу, как прибудет в Орск, сразу же выйти из партии и еще долго рассуждал о «крепком хозяине», которым «мужик хотел бы стать, да не дают», о загубленных предках: «половину раскулачили, половину на фронте переколотили». Обычно неспешный и мягкий его говорок несколько раз густел, и с кухни доносились раскаты лозунгов.
В конце года свобода победила и «кубинские сертификаты» Болбасов были аннулированы.
В середине 90-х дядя Коля ушел с предприятия — перестали платить. Болбасы кормились теперь благодаря обширной загородной пасеке и в Москву не наведывались. До меня долетали новости об их житье-бытье. Дочка родила дочку и развелась. «Коля выпивает бутылку водки за обедом», — сообщил сокрушенно мой родной дядя Геннадий из Екатеринбурга.
Следующая встреча произошла зимой 2004-го. Болбасы собрались с силами и приехали. Я встретил их на вокзале. Приближаясь, навел мобильный телефон и сделал снимок. Неудачный, на выброс кадр. Коля стоял на перроне, огромный, в высокой меховой шапке, с красным широким лицом, из которого словно еще не вытравился кубинский загар, но по щекам, как изморозь, бледнела щетина. Он стоял и не шевелился, ожидая моего приближения. Рот медленно ощерился в нежной улыбке. Я поцеловал щеку, уколовшись, и расцеловался с тетей Аней: та совсем не поменялась, лишь больше раздобрела, стала похожа на домашнюю утку. Досадливо — я заметил сразу — сверлил ее темный птичий глаз.