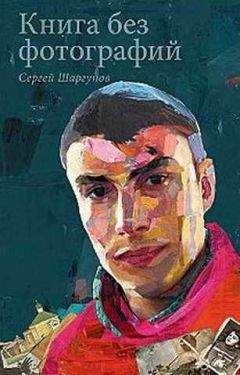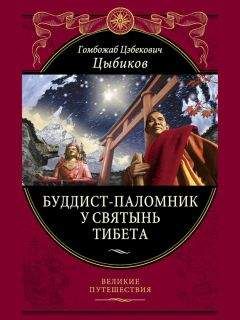Артем внимал восхищенно. Я слушал со свойской полуулыбкой и думал: завтра у нас своя война. Наш бег.
И было завтра. Целый день я разъезжал по Воронежу, готовя вечерний прорыв. В городе не было дорог, не было работы, а было много серых стен с бранными надписями — на тему секса и на тему политики.
Сумерки упали рано, иссиня-черные. Мы собрались на перекрестке, чтобы прошествовать в центр города и устроить митинг. Запрещенный. Беспорядочно дул пронизывающий ветер. Злой ветер был всюду, достигал костей и грыз их, высасывая содержимое. Я прижимал к себе ворох флагов, красных и желтых, словно надеясь ими согреться. Потом я раздал в толпе эти флаги — красные и желтые. Артем раздал файеры: дернешь за веревочку, и взлетит огонь.
Мы были предоставлены сами себе, двести человек молодых, из Воронежа, из Верхней Хавы, из Анны (есть и городок Анна в Воронежской области). Мы пошли. Я был впереди, в синем коротком пальто, светлый ремешок перекинут через плечо и соединен с белым легким мегафоном.
Утопил кнопку и услышал свой крик, как чужой. Крик за спину и далеко назад унес ветер.
Шли все быстрее — ветру навстречу.
Я почувствовал себя парусом, тугим и шершавым, кожа срослась с одеждой, а крик ветер заткнул обратно в глотку. Шипение и вспышка: Артем зажег первый файер, и все побежали, уже на бегу озаряясь огнями. С магазинным огнем ветер справиться не умел. Шипение и вспышка. Шипение и вспышка. Нас фотографировала сама русская революция и наши бешеные юные лица хоронила в свою неистощимую картотеку.
Мы вылетели из-за угла и впереди, на площади ждали, выстроенные в шеренгу, колеблемые ветром…
Мы накатили на них и остановились. От них был милицейский генерал — щекастый самовар. От нас — я, худой, с мегафоном.
— Ты у меня сегодня до Москвы не доедешь! — Хозяйской лапой он вырвал у кого-то горящий файер и сунул мне в лицо. Я дернулся назад.
— Урод! — услышал я звонкое, и следом Артем плюнул ему на усы.
Серые цепи, мгновенно соорудив клин, врезались в нас, ответно сжавшихся. И началось побоище — жаркий ком на ветру, со скрежетом подошв, ударами, воем и хрипом. В разгар всего этого коллективного объятия ненависти меня и похитили оттуда, с площади Ленина. Сильная рука сзади обвила шею, точно удав, и вдруг оказалось, что четверо вокруг не друзья, а недруги в гражданском.
Битье в машине, битье по дороге, битье на допросе.
В перерыве меня ввели в отдельную комнатенку, где воняло умопомрачительно чем-то скисшим и протухшим, и сфотографировали.
«Повернись!» — говорил мент. Я вставал в профиль. «Не дергайся ты!» Щека моя дергалась, ожидая удара.
Ночью вывели с автоматом в спину под черное небо. И не сбежать оттуда было, из пыточной крепости Черноземья. Небо было черно, затянуто, без звездочки.
Впрочем, к чему переживания? Вот какого-то забулдыгу в ту ночь и впрямь истязали (чем громче кричал, тем сильнее получал), пока он не отключился, а я — что? Ну под дых, ну по щам, ну выбил кулак сигарету из губ… (Большинство товарищей, кстати, и Артем тоже, в тот вечер сумели разбежаться, не захваченные.) Поэтому включу иронию: «круги ада», или «кругляши» — так я прозвал отверстия в железных дверях камеры. Наполненные ослепительным электричеством, они сверлили мой мозг приветом извне, как будто из каждого отверстия вот-вот вылетит маленькая птичка и будет целая стайка… Зачирикают пташки, носясь по нашей темной камере, ударяясь о каменные стены!
Я был неподвижен, сжатый во тьме телами бандосов, взятых за гоп-стоп, дурел, побитый, и глаз не мог сомкнуть, загипнотизированный сиянием этих маленьких круглых дырок. Все ждал птичек, хотя бы одну. Круги издевались. Я провел рукой по шее, нащупывая ссадину. Даже крестик отняли перед камерой, нехристи! Вероятно, чтоб не вскрыл крестиком себе вены…
Когда я вышел и обрушился поток звонков и эсэмэсок, я очень огорчился: Аня молчала. Позвонил. Она говорила вяло и безразлично, очевидно, в халате глядя телек. Она ни о чем не знала. Она не интересовалась мной, не набирала имя мое в Интернете, ей по фигу было, как пройдет экспедиция в чужой город.
Больше суток я просидел — она не знала. Узнав, протянула: «Ну, ясно», — на том конце линии дернула плечиком, теплым после ванной.
А потом была зимняя Москва, где я тоже бегал, огибая сугробы и скользя. Пришли с обыском домой. Столкнулся с милицией в дверях подъезда. Двое переглянулись, а я побежал. Ударился коленом о грязный лед — черный след на джинсах.
В тот день целый отряд вломился в квартиру, напугав Аню, она была ко мне гораздо нежнее прежнего плюс беременна нашим Ваней. Они устроили засаду, но она успела мне позвонить. Бедная Аня, ее ужаснул этот налет: она же хотела уюта. Но они и по Москве за мной гонялись. Активист Степан, очкарик со стальными зубами, футбольный фанат, их вычислил возле дома, где я спрятался, и помог мне убежать через черный ход. Мы с ним бежали, метель клубилась, сзади гремели крики. Мы с ним растаяли в снегах.
Разыскиваемый, я вечером нагло приехал в центр на день рождения к приятелю, удачливому журналисту: собрался махровый цвет официоза, и за столом все подтрунивали над моими злоключениями. Кто-то так и сказал: «Все бегаешь!». На выходе с праздника и взяли. Я переходил бульвар на углу улицы Петровки, тут меня хлопнул долговязый парень. Через секунду я очутился у памятника распятому Высоцкому, а со всех сторон бежали, бежали, бежали мужчины. Останавливались темные машины и из них выбегали. Автобус с ОМОНом, тяжело урча, въехал на тротуар и боком встал у Высоцкого. Я улыбался в клубах снега, а камера оперативной съемки сияла круглым огнем прожектора. Вспышки. Одна. Другая. На этом всё и кончилось.
Игра в догонялки. Догнали, поймали, осалили, засняли и, обрадованные, отвалили…
А через два года у меня были выборы. Сначала сладость «бабьего лета», фотографии для плакатов, которые будут развешаны по всей Родине.
Но ничего не сбылось. Портреты пошли коту под хвост. Ультиматум, высокий кабинет, щелкнул замок. Все, как в пошлых и ярких лентах. Я сумел выбраться в коридор, обманул приставленную охрану и сбежал. Помню свой топот по лестнице: бух-бух-бух. Я бежал обморочно, вслепую, как будто лежу, и сердце так колотится.
Провел по губам. Розовая пена. Забегался. Ах, это отпечаток твоей помады, милая моя. О, революция, левая подруга! Я отдал немало молодых сил нашему беззаконному бегу, изменяя размеренным движениям.
Ведь есть еще Анечка, родной дом, ужин, детский смех, халат, семейный альбом.
А может, чем не занимайся, жизнь будет бегом по кругу, и завтра — снова на площадь?
Нет, я расскажу подробнее. Подробнее расскажу, говорю. Про то, как прорвался к Парламенту и был остановлен в полушаге от него.
Меня наградили охраной, потому что я попал на финишную выборов. Тренированные стражи и зеркальные машины с темным стеклом — чтобы никто меня не убил.
Но я тотчас захотел: пускай приставленные в меня поверят, хотя бы на чуть-чуть. Ну, пожалуйста, пускай они удивятся, что я не такой, как те, кого они раньше возили и берегли. Худ и скромен. И свитер бедняка, лиловый, старый, его еще отец носил.
Сквозь солнце «бабьего лета» катила наша черная зеркальная машина. Зазвонил мобильник.
— Да?
— Сергей Александрович? Мое имя Мила. Фамилия Смирнова. Хочу вас поздравить. Большой успех. Писатель-депутат. Да еще такой юный! В первой тройке! В бюллетенях на всю страну! — голос энергичной курильщицы. — Я представляю издательство. — Она назвала. — Мы узнали, у вас готова книга. Так?
— Рукопись.
— Вы теперь ужасно занятой. Но было бы чудесно! Мы хотели бы с вами задружиться!
— Предлагаю часа через два. На Маяковке есть «Кофе-хауз».
— Спасибочки. Так вы еще и ясновидец. У нас окна туда глядят. До встречи!
— Шестой, шестой, — глухо забормотал охранник с белым проводком в оттопыренном ухе. И что-то неразборчивое.
Они со мной возились третий день. У них были непроницаемые лица и мало слов. Мне казалось, я держу себя по-простому, легко. Я хотел добротой покорить сердца, на которых борозды проложила плеть. Шофер был весь пивной, а охранник — настоящий водочник. Горячее дыхание вырывалось сквозь его узкие серые губы, из мясистых ноздрей, и чудилось, он хочет оскалиться во всю пасть, клоунски наморщить нос, дико завопить. Сколько напряжения и обиды они уже пережили, шкурами прикрывая кого-то!
— С кем вы разговариваете? — спросил я в первый день.
— Вы ничего не заметили? — охранник даже приосанился. — Это наше сопровождение!
Сопровождение я видел мельком. Сопровождение ловчило позади, ближе к цели маршрута — вырывалось вперед и укатывало на разведку: нет ли угроз, и докладывало картину в проводок охраннику. Когда мы причаливали, они уже ждали нас, лихие четверо, выпавшие вон, их машина стояла дверцами нараспашку.