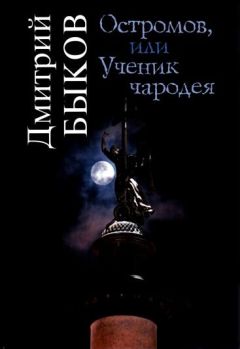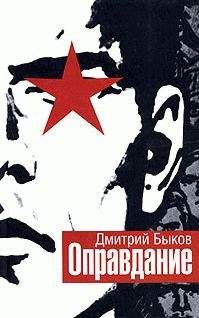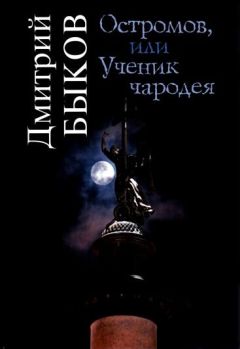— Я предупреждаю вас о недопустимости, — мягко сказал Гольдштейн. Денисов из угла вскинул на него потрясенный взгляд.
— Я сделаю все, что будет в моих силах, — улыбнулась Пестерева.
— Меня интересует ваш кружок строгого восточного послушания, — улыбнулся в ответ старший следователь, и в улыбке этой Денисову померещилось нечто заговорщицкое. Пестерева слегка покраснела.
— Кружок строгого восточного послушания, — произнесла она с игривым смущением, — я собрала в девятнадцатом году с единственной целью: преодолеть разврат, царивший в это время в городе, и обеспечить новую элиту — вы понимаете, конечно, о чем я, — достойными спутницами, хранительницами традиции.
Надо было как можно чаще забрасывать эту сеть — «вы понимаете», «вы знаете, конечно», «как вы и сами догадываетесь», — всякий раз уловом была то улыбка, то смущенное пожатие плеч, а один раз ей показалось, что Гольдштейн даже подмигнул.
— Вы занимались личной жизнью участниц кружка? — спросил старший следователь.
— Только в той мере, в какой это касалось их духовного роста, — строго ответила Пестерева. — Только в этой! Ни в каком ином смысле. Люди нашей традиции не снисходят до слежки. Я сама знала все, что мне было нужно. Лично исключила двоих. Эти были безнадежны. Но они и не принадлежали к нашему кругу, это были остзейские немки без всяких правил.
Гольдштейна передернуло.
— Вы говорите о противодействии разврату, — начал он вкрадчиво. — Но мы имеем сведения, что на ваших заседаниях… повседневной практикой было обсуждение порнографической литературы…
— Господин следователь, — с достоинством произнесла Пестерева, и голос ее зазвенел, — я категорически прошу вас не употреблять этих слов. Я могу быть виновна в чем угодно, но не в разврате. Посмотрите на меня. Можете ли вы соединить хотя бы в уме понятия обо мне и порнографии?
— Речь идет не о вас лично, — буркнул Гольдштейн, — я знаю, что вы обсуждали сомнительные трактаты…
— Этим сомнительным трактатам более трех тысяч лет, — хрустальным колокольчиком рассмеялась Пестерева, — и единственной целью их изучения служит гармония, а вовсе не скотское удовольствие. И согласитесь, господин офицер, что женщина, предназначенная в жены новым рыцарям, эта жрица нового порядка, должна кое-что кое в чем понимать, — и она лукаво погрозила Гольдштейну мизинцем.
— При этом вы допускали мужчин…
— Разумеется, я допускала мужчин. Я не готовила наседок, господин старший следователь. Девушка должна знать, как вести себя с мужчиной, чтобы не хлопать глазами и не выглядеть глупой курицей в его обществе. Мы никогда не вели политических разговоров — не потому, что это неинтересно, а потому, что это неприлично. В моем кругу считалось непристойным расспрашивать о политических симпатиях и тем более рассказывать о своих.
— Если все было так невинно, как вы говорите, — заметил Гольдштейн, постукивая папиросой по крышке портсигара, но не решаясь закурить, — почему работа кружка содержалась в такой тайне?
— Исключительно из педагогических соображений, — отчеканила Пестерева. — Женщина не должна много болтать. Только отвечать на вопросы, и то не всякому. Вы сами понимаете — так, как я говорю с вами, немыслимо говорить с любым, это попросту не нужно… Впрочем, зачем я вам объясняю? Девушки лучше усваивают правила хорошего тона, когда они приправлены тайной — покрывалами, посвящениями… немного Египет… мы любопытны, умные мужчины всегда играли на этом.
— Однако вы собирали взносы, — напал Гольдштейн с неожиданной стороны, но Пестерева ничуть не смутилась.
— Всякий труд должен быть оплачен, женщина должна смолоду знать это, чтобы не быть содержанкой и не брать дорогих подношений. Смею думать, я кое-чему научила этих девушек. Я не содержанка и никогда не была ею, у меня не скоплено сбережений, и думаю, свои два тогдашних миллиона я зарабатывала честно. В месяц выходило что-то около пяти килограммов картофеля, столько же репы, немного постного масла — гораздо хуже, чем я обеспечена здесь.
Она тонко улыбнулась, Гольдштейн хмыкнул.
— Расскажите о мистическом браке между Остромовым и участницами его кружка, — предложил он доверительно.
— Рассказывать нечего, — кратко отвечала Пестерева, выпрямляясь на стуле.
— Отвечайте на вопрос, — без особой строгости в голосе потребовал Гольдштейн.
— Мистический брак — не та тема, о которой могут говорить третьи лица. Спросите учениц, Остромова, если он сочтет возможным говорить… Вы лучше меня знаете, господин старший следователь, что есть вопросы, касающиеся двоих.
— Но обряд совершали вы?
— Этот обряд сводится к чтению одного итальянского текста тринадцатого века и соприкосновению кубками.
— Губками? — скаламбурил Гольдштейн, и Пестерева нашла возможным чуть заметно улыбнуться.
— После того, как связуемые мистическим браком выпивают из кубков друг друга, они не прикасаются друг к другу до следующего новолуния.
— В чем же смысл этого обряда?
— В нескольких взаимных клятвах, смысл которых слишком сложен для меня. Я могу связать мистическим браком, но не объяснить… Впрочем, если угодно — это для тех, кому неприятны церкви с толстыми попиками, но недостаточно просто записаться в книгу, как это практикуется сейчас.
— И много было желающих? — как бы невзначай поинтересовался Гольдштейн.
— Других случаев не припомню. Это сложный обряд, не все могли вытерпеть до новолуния.
— М-да, — сказал Гольдштейн. Он покусал папиросу. Старуха была не проста. Ее не о чем было спросить, до того все ясно, — но эту ясность к делу не пришьешь. Она отвечала охотно и подробно, и попробовала бы не ответить — он знал за собой эту способность расколоть любого, смотри, как она передо мной выбалтывается, учись, разиня, — но никакой ответственности за обучение правилам хорошего тона предусмотрено не было, хотя бы это обучение и проводилось в рамках культа Изиды. Конечно, профессионал его класса — вон, даже старая стерва не может скрыть раболепия — вытащил бы из нее что угодно, но что потом с этим делать? Кажется, они действительно забрали слишком широко: Остромов — другое дело…
В эту секунду, однако, он поднял глаза на Пестереву и на мгновение увидел ее глаза — тут же принявшие прежнее выражение почтительной заинтересованности, но ему хватило и короткой вспышки истины: это был взгляд старой, трезвой, оценивающей волчицы, знать не знающей никакого раболепия. Он вгляделся. Конечно, померещилось. Перед ним была старая дама, готовая к сотрудничеству со следствием — конечно, в рамках приличия, принятых в ее кругу.
— Ну вот что, — сказал он тихо. — Об этом вашем борделе с мракобесием мы еще побеседуем. И о мистическом браке, и о древней порнографии — все расскажете, как миленькая. Как принято у людей вашего круга. Я не спешу. Времени у нас много.
— А у меня немного, — спокойно произнесла Пестерева.
— Это верно, — кивнул Гольдштейн. — Даже меньше, чем думаете. Поэтому затягивать тоже не советую. Я и так уже знаю достаточно, чтобы пообещать вам увлекательное путешествие на восток.
— Ах, восток, великий восток, — мечтательно сказала Пестерева. Конвой увел ее.
— Никакого гипноза, конечно, нет, — процедил Гольдштейн, оставшись наедине с Денисовым. — Но барынька хитрая, колоть нужно тонко. Следующий допрос с нее будет снимать Колтыгина.
3
— Альтергейм Константин Иванович, тысяча восемьсот девяносто девятого года рождения, сын полицмейстера, — ровно сказал Осипов. — Расскажите мне, гражданин Альтергейм, о ваших контрреволюционных сборищах.
— Я боюсь, вы меня не поймете, — сказал Альтер.
— Постараюсь, — ухмыльнулся Осипов. Он решил сегодня быть добродушен. В конце концов, Альтергейм был его лет, даже родились они в одном и том же апреле. Стоило попробовать мягкий тон. — Закуривайте.
— Благодарю вас, — сказал Альтер и взял «Иру». — Видите ли, вы человек не нашего круга, и потому кое-что я не смогу объяснить никогда.
Осипов обиделся, но взял себя в руки. Мысленно он скрипнул зубами, но на деле лишь слегка оскалил их.
— Это не в обиду, — добавил Альтер. — Быть человеком нашего круга не означает ничего хорошего, в особенности сейчас. Но если вы настаиваете, я вам попробую объяснить. Представьте себе ситуацию: жили люди, ели мясо, но мясо вдруг запретили. Его в стране мало, и оно полагается теперь только ответственным работникам. И тогда они стали собираться у кого-нибудь на квартире, есть пареную репу и говорить о мясе. Вот к какой метафоре я позволил бы себе прибегнуть в ответ на ваш вопрос.
Альтер затянулся и помолчал.
— Или возможна другая метафора, она наглядней. Жили некоторые люди, они любили нюхать цветы. Но цветы запретили, потому что в государстве их мало, и теперь их нюхают только ответственные работники. Тогда эти люди собираются вокруг мусорной ямы, нюхают, чем там пахнет, и говорят о цветах.