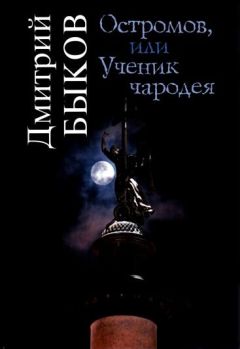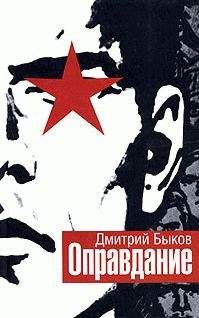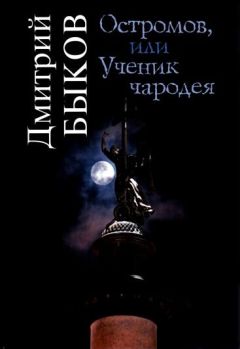Альтер затянулся и помолчал.
— Или возможна другая метафора, она наглядней. Жили некоторые люди, они любили нюхать цветы. Но цветы запретили, потому что в государстве их мало, и теперь их нюхают только ответственные работники. Тогда эти люди собираются вокруг мусорной ямы, нюхают, чем там пахнет, и говорят о цветах.
Он сделал еще одну паузу и поковырял мизинцем в ухе.
— И, наконец, третья метафора, окончательно поясняющая ситуацию. Жили какие-то там, я не знаю, с позволения сказать, люди, у них были какие-то органы чувств для осязания каких-то, я не знаю, поверхностей, или, скажем конкретнее, для различения красок. Но вот все краски упразднены, кроме двух главных, и эти органы, то есть, скажем, глаза, начинают мучительно болеть, оттого что им нечем питаться. А красок не осталось ни у чего, даже у ответственных работников, потому что ответственные работники как раз и не различают красок, это проистекает из самого понятия ответственности. Но глаза болят мучительно. И вот эти люди собираются в одном небольшом месте, из которого видно небо, очень низкое и коричневое. Но поскольку коричневое все-таки не черное и не белое, на него можно смотреть и очень понемногу, очень потихоньку насыщать глаза. Из этого уже можно было бы делать сюжет. Лунц бы сделал пьесу. Вот так я могу вам примерно объяснить характер этого сборища, но это не раскрывает понятия нашего круга. Его особенно трудно раскрыть, поскольку нашего круга почти нет, а когда в него попадаешь, все понятно без объяснений. Но чтобы вам и вашему кругу стало понятней, отмечу, что в нашем кругу о каких-то фундаментальных вещах уже договорились, и здесь нам приходится ввести понятие конвенций. Мы уже не нуждаемся в том, чтобы объяснять друг другу, почему плохо есть детей. Ну или еще какие-то утонченные правила. И потому, не нуждаясь в том, чтобы обосновывать каждый шаг в рассуждениях, мы можем просто, сразу приступить к выяснению действительно интересного. Например, почему лучшая пьеса не «Гамлет», а «Троил и Крессида»…
— Как-как? — переспросил Осипов, радуясь первой зацепке в виде имени собственного.
— «Троил и Крессида», — раздельно повторил Альтер. — Самая антисоветская пьеса Шекспира, очень рекомендую. Или, например, почему Маркион не основал церкви, хотя имел к тому, казалось бы, все основания. Или почему блондинки громче кричат в определенной позиции…
— Сволочь! — заорал Осипов и ударил кулаком по столу. — Рассказывай мне, дрянь, мразь, сейчас же, тут же все мне здесь рассказывай о ваших антисоветских сборищах!
— Вот видите, — тихо и сострадательно сказал Альтер. — Я же говорил, что вы не нашего круга.
4
Велембовского как особо виновного — как-никак он преподавал в военной академии, а потому его оккультные увлечения были вдвойне преступны, — сразу же поместили в уголовную камеру, где, впрочем, уголовники были особенные. Это была прослойка воров, сотрудничавших со следствием и получавших за то разнообразные послабления. Еще не настала пора ссученных, но уже вовсю процветали меченые: это были информаторы, «прессовики», помогавшие доламывать надломленных, и подсадные, как мирно, почти по-цирковому называли тех, кто помогал разговорить молчаливых.
Девяносто пятая камера на третьем этаже второго корпуса «Крестов» была заполнена именно такой фартовой публикой, отбывавшей незначительные срока за грабежи и жившей, в общем, припеваючи. Публика сменялась, а профиль камеры оставался прежним: сюда вталкивали тех, кто не хотел разговаривать, грубил следствию или не желал выдавать подельников. Велембовского перевели сюда с пятого этажа, не объяснив причин.
В камере было девятнадцать человек — по меркам 1925 года прилично, но по меркам тридцатых почти безлюдно. Здесь всем разрешались посылки и навалом было курева, а главным развлечением была обработка гостей. Гостей давно не подбрасывали, и девяносто пятая скучала. Гости были, как правило, из бывших и ломались на удивление быстро, но с некоторыми приходилось повозиться; групповые избиения не практиковались — молодая советская республика блюла молодую советскую законность. Одного лицеиста за полгода до масонского дела приложили об пол, отбили почки, был шухер.
— Здравствуйте, — с достоинством сказал Велембовский.
— Здорово, дядя, — ласково отвечал Володя Сомов, подписавшийся на сотрудничество еще в первую свою ходку. Ломать бывших было не в падлу, это почиталось делом почти благородным и авторитет Володи Сомова не роняло. — Присаживайся вечерять.
Велембовский настраивался на худшее и, увидев простую, широкую рожу этого доброго, в сущности, парня, несказанно обрадовался. Он всегда верил в свой народ и в то, что этот народ его не выдаст.
— Благодарствую, — сказал он сдержанно. — Поделиться нечем, передачи мне запрещены.
— А и что ж, дядя, — сказал Коля Панин, совсем молодой воренок с розовым, нежным, почти девическим лицом. — Нам што, дядя. Нам сказочку бы послушать, песенку попеть.
Велембовский насторожился, но присел на нары, куда указал Сомов, и взял любезно предложенный им кусок вареной курятины.
— Мы, дядя, загадки любим, — сказал Миша Славянский, рослый малый с внешностью добродушного мастерового. — Покушай, а потом заганем.
Велембовский с благодарностью кушал. Он предполагал, конечно, что его станут испытывать, что в камере надо уметь себя поставить и что ни в коем случае нельзя притворяться своим — здесь чем чужее, тем безопасней; но представления о загадках не имел, и взять его было ему неоткуда.
— Ну так вот, дядя, — сказал Боря Добрый, староста камеры, виртуозный наноситель тяжких повреждений здоровью. — Если три загадки угадаешь, то будешь прынц.
Он гастролировал однажды в Москве, смотрел спектакль «Принцесса Дураврот» или что-то навроде.
— Первая загадка, — сказал Саня Бобец, в прошлом борец, — будет тебе такая. Бочка стонет, бояре пьют. Што это такое?
Девяносто пятая камера радостно, добродушно засмеялась. Велембовский не знал ответа. Он задумался.
— Не знаю, — признался он наконец.
— Э, э, дядя, так не годится, — неодобрительно сказал Леша Муханов, успешный кавалер, любимец Лиговского района. — Такого ответа нет, дядя. Ты подумай: бочка стонет, бояре пьют.
Что стонет, лихорадочно думал Велембовский, что же стонет… Вот оно, все, чему меня учили, — ни к чему не годно, бездарно, напрасно. Что стонет? Ветер. Ветер несет дождь. Гроза, гром, как из бочки!
— Это гроза! — воскликнул он радостно.
— Ничего не гроза, — лениво протянул Коля Панин. — Это, дядя, свинья с поросятами.
Он сделал неуловимое движение, и Велембовский согнулся пополам.
— Если так будешь отвечать, дядя, — сказал Боря Добрый, — ты не будешь прынц.
— Вот тебе вторая, — начал Саня Бобец.
— С-сволочь, — сквозь зубы просипел Велембовский. — Двадцать на одного, мразь. Попадись вы мне по одному, вы поползли бы…
— Э, э, дядя! — сказал Леша Муханов. — Такого ответа нет. Ты на загадку отвечай, а не ругайся. Мы тута собралися культурные. Загадка: у тридцати воинов один командир.
Велембовский не отвечал.
— Ну, дядя! — прикрикнул Боба Сидоров, человек культурный, с тонкими пальцами. — Ты давай, што ли! Тебя ждут, понимаешь, а ты тянешь…
Велембовский молчал.
— Упорствует дядя, — сказал Коля Панин. — Это, дядя, язык, а тридцать зубов — солдаты. Но ты скажешь резонно: их ведь тридцать два! Отвечу тебе, дядя: их было тридцать два. Но стало тридцать. Смотри.
Он ударил Велембовского в челюсть, и хотя двух зубов не выбил, но один покрошил. Велембовский ощутил ужас, полузабытый с детства: он был один против всех, и намерения у них были серьезные. Никто из надзирателей не вмешался бы, даже закричи он сейчас позорным заячьим криком. Оставалось последнее.
— Что вы делаете, — почти прошептал он. — Я старый человек. Я в отцы вам гожусь. Что вы делаете со мной, посмотрите, ведь вы здесь такие же арестованные, как я…
Он ненавидел себя за эту заискивающую интонацию, но чувствовал, что требуемое сделано, что он может быть прощен, ведь главное совершилось, — и поверх этого сознания невыносимо презирал себя, и поверх презрения надеялся.
— Э, э, дядя! — сказал Леша Муханов. — Такого ответа нет. Слушай третью загадку: поднялись ворота, всему миру красота.
Велембовский разрыдался, глотая кровь.
— Радуга, — прохлюпал он.
— Э, э, дядя! — прикрикнул Жора Томилин. — Такого ответа нет! Дядя, это виселица!
Так они учили его неделю, и он все давал разные ответы, и все не мог научиться, что правильного ответа нет.
5
— Так-так-так, — уютно сказал Смирнов, сам человек плотный, уютный. — Дробинин Герман Владимирович, тысяча восемьсот девяностого года рождения. Рассказывайте, Герман Владимирович.