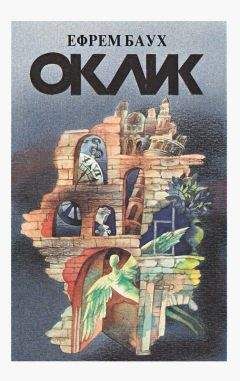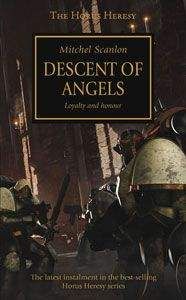Горбатые ялтинские улочки с кипарисами скрывают тысячи тайн за каждым поворотом, волна, полная мусора, бьет в угол каменного парапета, оркестр играет на крыше ресторана, у мола, к которому пришвартовывается корабль, идущий в сторону Кавказа, все это сливается, еще более подчеркивая неповторимость моего одиночества; даже робость перед этим полуодетым, украшенным драгоценностями, прожигающим жизнь миром тоже воспринимается частью этого одиночества: не участвуя впрямую, я как бы растворен среди этого карнавального мира курорта, где все приезжие без корней, где все настоено на хмелю, на будоражащем запахе иодистого моря, пота в смеси с солью.
Просыпаюсь с ощущением, что ночлежная комната заполнена людьми, шаркающими и бормочущими. Раскрываю глаза: комната пуста. Шум доносится в окно. Выглядываю. Странное зрелище: на уровне моих глаз одни ноги – в сандалиях, туфлях, тапочках, переступают, почесываются, даже танцуют какую-то чечетку. Оказывается, окно выходит прямо на уровень улочки, где расположен базар.
Хожу по улочкам Ялты, подолгу торчу у церквушки, в которой снимался фильм "Праздник святого Йоргена" с Кторовым и Ильинским, обнюхиваю каждую вещь в домике Чехова: человеческое гнездо, оставшееся нетронутым, но мертвым, лишь странно ощущаемые крупицы жизни – в висячей лампе на веранде, поблескивающем медью маятнике часов, море, чей уголок просматривается из окна.
В сумерках поднимаюсь по трапу на теплоход, билет у меня палубный, сижу, поглядываю на мгновенно отделившийся и уже ставший чуждым берег, Ялту, горы. Подходят два солдатика: можно у вас гитару.
Наигрывают что-то, переговариваются, просят: не сыграете ли что-нибудь.
Через полчаса вокруг меня собралась почти вся палуба. Не замечаем, как теплоход вышел в море. Какой-то парень так и лучится восторгом:
– Слушай, можно я аккордеон приволоку?
– Почему же нет? Давай.
Вот уже и оркестр. В полночь офицер просит разойтись.
– У тебя что, палуба? – спрашивает аккордеонист, – Ну-ка, пошли.
Оказывается, он рулевой на корабле, выходит в ночь на вахту, зовут его Игорь Крылов, живет в Одессе, на Ближних Мельницах, кормит меня в камбузе ужином, кладет спать на свою койку.
В Одессу приходим с опозданием. Поезд на Кишинев уже ушел. Игорь везет меня к себе домой, утром отвозит на вокзал, покупает билет (непредвиденная ночь в Ялте нарушила все мои финансовые расчеты), дает еще пятерку на дорогу, вот уже мелькает за окном, машет, вихрастый блондин, отличный парень Игорь Крылов, которого тоже больше никогда не увижу, и поезд набирает скорость, и вновь начинается и разворачивается музыка дороги, страстно и тщетно пытающаяся быть цельной и обрывающаяся с каждой новой связью, но уже прослушивается в ней тема на всю мою жизнь – мелодия вечного расставания с молодостью.
…Не заснут, если не сделают зла; пропадает сон у них, если они не доведут кого-то до падения.
Притчи Соломоновы, 4, 6
ВРЕМЯ, КАТЯЩЕЕСЯ В СЛЯКОТЬ.
ТАНЕЦ: БЕЗОГЛЯДНОСТЬ И ПУСТОТА.
БЕСКОНЕЧНЫЙ КОНЦЕРТ.
МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ КЛЕЙМО.
ВРОСШИЙ В ЗЕМНОЙ КРУГ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
ЛАБИРИНТ: ЗДАНИЕ, ГОРОД, МИР.
КАЗНАЧЕЙ СТРАХА.
НАПУТСТВИЕ В ЖИЗНЬ.
Последние декабрьские дни, а особенно ночи пять-десять седьмого муторно бесконечны, и хотя мы изо всех сил стараемся пьянками, картежным загулом, бестолковым шастаньем по забегаловкам, танцулькам, случайным пирушкам сдвинуть с места это непривычно бесснежное время, окружающее нас какими-то уродливыми ледяными наплывами, все недвижно, тускло, тоскливо.
Абсурдной кажется сама мысль, что через насколько месяцев – конец учебы, нас выбросит по кривой в жизнь, и абсолютная неизвестность того, что нас ждет, вызывает озноб.
Весь предновогодний день шел тихий снег: его уже не чаяли дождаться, и это было добрым предзнаменованием; и мы бродим завороженные и запорошенные по дремлющему в полдень городу в предвкушении новогодней гулянки, от которой всегда так много ждут, особенно в молодости.
Среди младшекурсников мы чувствуем себя отчужденными, отмеченными знаком перезрелости, как плоды, которые еще бодро висят на ветках, но уже обречены.
Это еще не приносит боли, но мучает жаждой самозабвения.
Она столь сильна, что мы почти бежим на гулянку, обжигаясь на внезапно грянувшем к ночи трескучем морозе, и скованный снег дощато поскрипывает под ногами, мы протискиваемся узким темным коридором в манящую светом и захлебывающуюся веселыми ритмами радиолы просторную квартиру сестричек Забегиных, мы на ходу сбрасываем куда попало пальто и шапки, выпиваем, не закусывая, безоглядно бросаемся в танец, не различая партнерши, легкий хмель развязывает языки, раскрепощает тела, мы пляшем по двое, по трое, в одиночку, кругом, цепочкой, нас выносит опять же через узкий коридор на снег и мороз, мы скользим, падаем, барахтаемся, но не перестаем плясать, словно бы танец хищником вцепился нам в загривки, это становится уже безумием, наваждением, некоторых уже стошнило по углам, но, бледные, улыбающиеся, они держатся за остальных, слабо перебирают ногами, – боятся быть выброшенными из цепи; уже к рассвету нас в очередной раз выносит наружу – в слякоть: мороз выдохся, снег тает; неожидан бьющий по нервам переход – коридором, темным тоннелем, в котором мы, теснясь и прижимаясь друг к другу, катимся из старого в новый год – из высокого морозного вечера в слякотно-низкое завтра, переход от горячих объятий, в которых таилась такая вера в спасение, к безнадежной слякоти с шумом падающих капель, шлепаньем множества ног в предрассветном городе, который непривычно полон людьми, бодрствующими, испитыми, валящимися от усталости с ног.
Танец внезапно прервался, и дни покатились не-прекращающейся слякотью в зияющую пустоту пятьдесят восьмого – мелкой моросью, затяжными дождями, липкими туманами, сквозь которые город проступает какими-то захламленными фрагментами – перерытыми улицами, открытыми люками, откуда несет невыносимой вонью, ручьями прорвавшейся канализации; домами, которые идут на снос, обнажаясь скошенными уровнями этажей, зияющими дырами бывшего жилья, похожими на разворошенные клоповники. Город походит на гигантскую клоаку, запахи которой особенно обостряются на весеннем гнилостном ветру. Город циклопической спиралью замыкает нас в лабиринт, проглатывает полными влажных испарений скользкими улицами и улочками, ведущими в бани, парные, куда ходим, обалдев от зубрежки к близящимся экзаменам, ошалев от работы над дипломным проектом, пытаясь хотя бы немного очиститься, выпариться, но и в самих банях из-под решеток в раздевалках сочится грязь, нас окружают мужчины, искривленные, козлоногие, грудастые, распухшие одним сплошным брюхом, лысые, волосатые, подмигивающие, похотливо просящие потереть им спину, скалящие в улыбках то чересчур зубастые, то беззубые рты. Сквозь густой пар проступают они подобиями высохших желудей, дынь, рассыпающихся пней, оцепенело глядят в ничего не сулящее завтра, затем горою распаренной плоти и гнилостным дыханием теснят нас в пивной, примыкающей к бане.
И это скорее походит не на раблезианскую фреску веселого обжорства и разложения, а на Содом, в котором за переизбытком греха уже смутно мерещится возмездие.
Внезапно осточертевают учебники, микроскопы, лаборатории, мы убегаем от всего этого искать покоя на Армянском кладбище, но тут нас встречают блекло проступающие сквозь туман свечи, сотни свечей у могил, склепов, скатерти с едой и графинами вина, рядом с которыми возлегают на сырой земле и едва пробивающейся травке мужчины и женщины, справляющие день поминовения, возлегают равнодушно, подобно покойникам, взирая на окружающий свалянный в тумане мир, обжираясь и напиваясь до умопомрачения, и расступившийся на несколько мгновений туман обнажает над их головами багрово-огненную закатную даль.
Копошась в непрекращающемся тумане, власти исподволь готовятся к близящимся майским праздникам: украшают пестрыми флажками мостики и перила над перерытыми улицами; безуспешно борются с прорвавшейся канализацией, насылая на нее несметные полчища бодрых с утра сантехников, которые уже через час-полтора, разбившись по трое, не столько промывают трубы, сколько горла, вяло подпирают стены, с пьяной улыбкой разглядывают свои двоящиеся отражения в прорвавшихся водах, занюхивая спиртное профессиональной вонью.
Закрывают зияющие дыры еще не снесенных домов въевшимися в печенку бодро-патриотическими плакатами.
Туманы нагоняют сон.
Во сне я пытаюсь сбежать от самого себя, грешного, но спираль каменного лабиринта все более втягивает в себя мой бег, спираль распрямляется в единую галерею, все вверх и вверх, а на галерею выходят квартиры, бани, рестораны, и у женщин лица потаскух, и все гонятся за мной с криками, скрипами, лязгом, лаем собак, и все тычут в меня пальцами, а мир уже вырвался за облака спирально закручивающейся башней, подобием Вавилонской, и все преследователи вымотались, отстают, засыпают, и вот я – один – среди облаков, на чистейших высотах, но что за тревога, что за странный, слабый, все усиливающийся гул: землетрясение? В ужасе кричат массы моих преследователей, падают в пропасть вместе с рушащимися стенами башни.