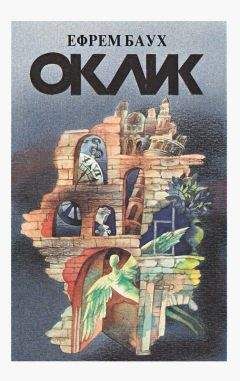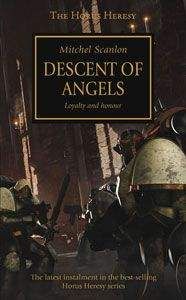– Библию читаете? И где это вам удалось ее достать? У нас ведь ее не печатают…
Основательно, выходит, порылся в моих вещах, поганец: книжечка была тщательно завернута, лежала под матрацем.
– Уберите-ка с моей койки весь ваш силос, – говорю резко, начинаю сбрасывать его травки, он суетится, подхватывает, бросаюсь плашмя на кой ку, едва сдерживаясь, все во мне кипит, приподнимаю сбоку матрац: все на месте, как будто и не притрагивались. Да, передо мной специалист не только по ботанике, но и по шмону, сотрудник, быть может, не только научный.
– А кто, собственно, дал вам право рыться в моих вещах?
– Извините. Просто искал что-нибудь почитать. Скучища ведь.
– Чтиво возят с собой. Так что же вас удивило?
– Ну… Геолог, естественник и… Библия, Бог.
– Конечно, ваш Бог – развитие, происхождение видов, Дарвин. Можно подумать, что он стоял с лампой, когда сотворился мир.
– Это пошло. Как вы можете так говорить?
– Так нас же только двое. Да, я тоже естественник, но науку-то, науку не превращай те в религию, не молитесь ей как идолу. Кстати, Дарвин ваш в Бога верил, в библейского…
– Чепуха.
Он не просто глуп, этот собиратель травок, он еще элементарно необразован, и кажется, испуган моей агрессивностью, но я уже не могу себя сдержать; после, в низине, я быть может, об этом пожалею, но здесь, на высотах, где всякая ложь и ханжество не просто оскверняют, а испепелить могут, я должен говорить то, что думаю:
– Читать надо не переложения, а оригиналы. О жизни Дарвина. Дореволюционные издания. Просто в его понимании теория происхождения видов увязывалась с библейской космогонией.
– Ну… может, время было такое, – неуверенным голосом говорит гриб: как ни хорохорься, а червоточинку не утаишь.
– Время у нас теперь такое. Бухгалтерское. Травки считать, насекомых накалывать. Весь мир сосчитывают да калькулируют, голова трещит от стука бухгалтерских костяшек. Мы в каком-то ослеплении от цифр и не видим насколько сами ничтожны, плоски, скучны, ну, хотя бы без псалмов Давида.
Он старше меня, этот младший научный сотрудник, я еще студент, перешедший на последний курс, он, кажется, подавлен, я, кажется, мечу бисер, но злость меня распирает, гонит, и я вдруг обнаруживаю, что она пробуждает интересные мысли, вероятно, давно во мне созревшие и затаившиеся, мысли, которые тай ком обтачивались, чтобы вырваться в такую неподходящую минуту, но остаться частью моего понимания мира на всю жизнь.
На рассвете ботаник, весь какой – то скукожившийся и серый, покидает гору, и это кажется, похоже на бегство.
Больше я его никогда не увижу.
Опять я один на один с яйлой, небом, орлами, день за днем, редко по пути захаживаю к пастухам: рассказывают о каком-то парне, Сергее, который месяц как исчез, следов его найти не могут, обыскали все пропасти, расспросили всех путников, то один, то другой говорит, видел такого, оброс, похож на лешего, шастает где-то здесь, на Демерджи, может встретишь; мать убивается, странный такой был, все в одиночку в горы, и, главное, боялся пещер, особенно на Караби-Яйле, там подземные речки, утянут, и поминай как звали.
Теперь это – как наваждение, особенно когда в сумерки иду через лес: то, кажется, ветка хрустнула под шагами этого Сергея, то лишай ник бородой его выглядывает из-за дерева; страха нет, наоборот, ощущение, что ты не один, что очень хочется встретить этого Сергея, отыскавшего истинный способ своего существования, который тебе заказан.
Как-то под вечер неожиданно заглядывает в палатку старик-пастух в кепке блином: гнал мимо ослика с бидонами воды, решил заглянуть.
– Что ж ты, шкубент, один да один? А там, знаешь, внизу пляшуть. Американьцы японьцам атомну бомбу кинули.
Так, на этих ангельских высотах, ненароком и третью мировую вой ну прозеваешь.
– Как кинули? – спрашиваю испуганно.
– Ну… один раз кинули, да? Теперь другой.
– Испытания, может, дед? – неуверенно спрашиваю.
– Ну да, ну да, спытания, – энергично кивает старик, явно под хмельком.
– А пляшут где?
– В Москве, где ж еще?
Это как сигналы исчезнувшей цивилизации: фестиваль в Москве, за которым мерещатся рожи Дыбни и Казанкова.
– Пошли до нас, – приглашает дед, – самогон у нас… свеженький.
Опять костерок, баранина, самогон. Старика совсем сморило, залез в землянку, на полати, вроде спит, а все слышит, особенно когда Петя начинает плести враки, время от времени подает с полатей голос:
– Кончай брехать, Петя. Все брех да брех.
– Да уймись ты, пьянь старая, – орет Петя.
Пастухи захмелели, опять про Сергея разговор: сумку-то его нашли в распадке недалеко от наших палаток (чуял же я что-то), а он прямо как ангел в небе растворился.
Возвращаюсь при звездах.
Кружится голова и такая легкость в теле: зазеваешься ненароком и взлетишь в небо, только бы в расселину не упасть.
А рядом ревет водопад, и я сажусь рядом с ним, я слушаю, и странное такое ощущение, будто вся звуковая громада моей жизни, отошедшей и будущей – пением, плачем, криками, ликованием рождения, войны, гибели, любви, все это рушится и звенит этим водопадом, и все обращено ко мне одному, а не будь меня, вообще – в ничто, в природу, и в этом – расточительное великодушие Бога, не думающего о зрителях и слушателях, или намек на то, что все истинное открывается в таких потаенных местах, и я сначала вслушиваюсь, замерев, в это неистовство, а затем начинаю почти кричать какие-то любимые мною стихи, выкрикивать все, что накипело в душе, петь, и все тонет в грохоте водопада, но во мне гнездится глупая мысль, надежда, вера, что все это не поглощается ревущими водами, а сохраняется, и кто-нибудь когда-нибудь, оказавшись в том же внутреннем состоянии, как я в эти мгновения, услышит мои тирады и ламентации, может Сергей этот их слышит и сей час, и ощущение такое, что чем глубже ночь, тем воды неистовствуют сильнее, но вот я удаляюсь за скалу, и все мгновенно обрывается: только звон тишины в ушах.
И этот внезапный перепад вместе с самогоном сладко и печально кружит голову.
На следующий день, к часам одиннадцати, все вокруг внезапно темнеет, да так быстро, что я не успеваю понять: ведь это тяжкие глыбы облаков, цепляющиеся за кривые стволы совсем низкорослого дубняка; ослепительно лиловая вспышка в двух шагах от меня, гром такой силы, что вообще его не слышу, шквал воды обрушивается с такой внезапностью, что едва успеваю ухватиться за ветки выскальзывающего из рук дубка, земля оплывает вниз из-под ног, а я внутри грозы, прямо в тучах; вот облако слегка сместилось, видны провалы, и в каждом по водопаду, несущему камни, дерн, глину, поток сшибает с ног, тянет, кажется, еще миг, и весь дубняк вместе с корнями, землей, мною, сползет и канет в реве падающих вод: наверно так выглядел Ноев потоп, пытаюсь я хорохориться, чтобы не потерять присутствия духа; но вот ливень слегка ослабел, но вот в какой – то просвет даже выглянуло солнце.
Сухие вади, вмиг взбухшие потоками, никак еще не могут успокоиться. Ливень прекратился, но облака так и не расходятся до ночи, и странное ощущение, как будто я вместе с палаткой нахожусь в каком-то ватном пространстве, и погружаюсь в сон, и в нем ручьи текут, шипя змеями по известняку яй лы, Ковалевский вместе с Беллой собирает пустые орешки, а на центральной площади Симферополя висит плакат "Остерегайтесь случайных связей".
Утром все те же облака. По знакомой тропе, которая на метр впереди меня исчезает в тумане, спускаюсь к Перевалу купить в магазинчике пару буханок хлеба. На обратном пути начинает моросить дождь. Оказывается, в самих облаках он тоже идет, и я кружусь в этой плотной белой вате, и не могу найти палатку битых два часа, я уже промок насквозь, пальцы окоченели, жую для успокоения, откусывая от угла мокрой буханки, а палатки все нет и нет, хотя чувствую, где-то рядом она, совсем рядом; на каком-то витке внезапно натыкаюсь на никогда ранее не виденную халабуду, рядом с ней старик, улыбается мне беззвучно ощеренным беззубым ртом, незнакомый, землистый, как видение смерти, из халабуды выглядывает ослик; вздрагиваю, предпочитаю пропасть в тумане, нежели видеть этот оскал, и тут неожиданно натыкаюсь на палатку: негнущимися пальцами с трудом расстегиваю полог, раздеваюсь догола, нагреваю воду в чай нике, нечаянно прожигаю стенку палатки; меня всего трясет, ну, думаю, не миновать воспаления легких, напиваюсь горячего чаю и ложусь спать.
Просыпаюсь через часа два: солнце, блеск, никаких туч, дождя, словно все это привиделось в дурном сне, стоит палатка в безмолвии, и надолбы скал вокруг, как зубцы крепости, одинокой, где-то на краю бес-край ней татарской пустыни, и прибежавшая откуда-то в полдень лошадь, чья тень неожиданно надвинулась на палатку, – я сначала не понял, кто это, а выглянув, спугнул ее, – убегает, скача по яй ле последним живым существом где-то еще существующей, но уже исчезающей цивилизации, напомнив о пире уже не во время, а после чумы…