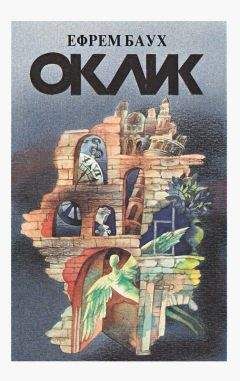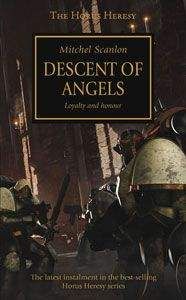И еще раз к ночи гроза захватит меня у Перевала, блеснет молния над столиками ресторана, разобьется и посыпется электрическая лампа, девицы-гусары начнут визжать, скалясь в темноте, все будут метаться под ливнем на веранде, а после я буду подниматься по скользкой тропе к себе, на яй лу, при свете новенькой омытой луны, и такой будет подъем в душе, и снова я буду что-то выкрикивать и петь под дальнее ворчливое погромыхивание грозы.
Последние дни на яй ле перед тем, как спущусь в Генеральское, чтобы там встретиться с Игнатом, особенно долги и неповторимы. Иду в самый дальний край яй лы, чтобы там, переночевать, встретить на рассвете восход, и внезапно, на повороте, врезавшаяся в память на всю жизнь глинистая красноземная дорога, ее освещенный закатным солнцем горб, внезапная праздничность мгновения в одиночестве гор Крыма.
Погруженные в жаркое марево, как в горячечный сон, горы облиты жидким стеклом солнца.
И время это – в горах – наполняет меня пространством: я живу в его протяженностях, сквозняках, грозах, и не понимаю, что это вообще – мелочиться.
Наступает ночь.
Зубчатый край леса.
Ложбина, полная опавших листьев.
Собираю их ворохом у самого края пропасти, обращенной прямо на восток, и небывалая, сводящая с ума своим сиянием луна встает над Демерджи-Яй лой, звенящей тишиной своих пропастей.
Луна, трепещущая форелью в водах.
Луна, воткнутая кривым ятаганом в "голову Екатерины".
Лежу на ворохе листьев, заложив руки за голову, и дорогие имена внезапно приходят в этих фосфоресцирующих сумерках, как птенцы, выпадающие из гнезда воспоминаний; ветка треснет под зверьком, быть может, ящерицей, странный писк доносится из рядом затаившегося мира, который не дано различить человеческому глазу, и такая отключенность, что мир человеческой суеты, там, внизу, кажется чуждым, в ином измерении.
Татарские имена гор и ущелий – Улу-Узень, Кара-Узень, Суук-Хоба – одиноко и беспомощно светятся в оставленном их высланными хозяевами, никому не принадлежащем пространстве.
Набежит легкий ветер, пальцами слепого пошарит в кустах, взворошит листья, коснется моего лица.
И все прошлое, накопившееся суетным Вавилоном, стоит низиной у ворот в горы, а сами горы – воротами в море – в даль, в средиземноморское семитское пространство, лиловое в этот поздний лунный час, как виноград в давильне, сжатый сухими камнями гор.
Отчетливо ощущаю собственное погружение в сон, глубокий, но в горах особенно чуткий: малейший звук – травинка, задетая мышью, шорох ветки, и я просыпаюсь, но тут же опять счастливо втягиваюсь течением сна, плыву в его водах, на спине, руки за голову, переворачиваюсь набок, и несет меня течением.
Гул моря, громада гор, тяга в дали раздвигают узкие глинобитные стены родного дома, спят мама и бабушка, умиротворенные: быть может, я им снюсь вместе с такой огромной и непугающей "головой Екатерины", и покой, столь надежно подпертый громадой гор, струится в их сон, как полая вода.
В полночь гул безвременья натекает в сон из будущих лет каким-то непонятным, главным предупреждением, но небоязнь, разлитая в теле, как темная заводь, все это обращает в тихую, натекающую из ночных пространств музыку.
Просыпаюсь с росой в волосах, и первый миг пробуждения среди палых листьев и диких горных трав пугает, как воскресение на пустынном кладбище среди можжевельника и бальзаминов. Предрассветная недвижность и безветрие кажутся потусторонними.
В сизо-серой бесполой мгле, прядающей от моих ног, и до самых краев мира что-то пытается пробиться, как птенец, бьющий ся клювом в скорлупу, и вот он – огненный птенец, скорее, чем я успел к этому приготовиться, пробивается из сизого ничто: прямо подо мной восходит солнце.
Аспидно-зеленая дымка, подсвеченная огненным маревом, клубится, как бы испаряясь, в береговых бухтах и щелях гор, и я абсолютно один, и я ни с кем не могу поделиться серебром вод, окрашиваемых сначала в опаловый цвет, а затем сверкающих так неожиданно и неповторимо, как может сверкать открытый в этот миг алхимиком эликсир жизни, и весь лесок вокруг меня начинает трепетать бледным призрачным мистическим сиянием, и я ощущаю себя вновь младенцем, только раскрывшим глаза на мир.
На следующий день наши палатки уже будут стоять в Генеральском, под горой, в запущенном фруктовом саду, на берегу той же речушки Улу-Узень, у подножия водопада Джур-Джур, и это уже будет иная жизнь, тоже пропитанная легендами, но более мягкими и чувственными в сравнении с сухой обнаженностью и категоричностью высот, где я стою в эти мгновения, наиболее приблизившись к самому себе, а там я уже начну снова сливаться с другими.
Мы с Игнатом забираемся в самые запутанные глубины этого бесконечного забвенного татарского села, набираем фрукты, Надежда Васильевна в огромной кастрюле варит компот, и нас окружают эти некогда роскошные сады разрушающимся, приходящим в упадок мусульманством. Стучит электродвижок, туристочки танцуют с пьяными парнями из села под радиолу:
На карнавале
Под сенью ночи
Вы мне сказали:
"Люблю вас очень…
Ковалевский с Надеждой уехали в Симферополь на субботу и воскресенье.
Лежим с Игнатом в темноте, полог палатки хлопает на ветру. Туристочки заглядывают в палатку, пугаются:
– Что за звук? Страх какой. А это у вас что? Гитара?
Перебираю струны: папа, мама, что мы будем делать, Игнат Герман лежит в палатке, Герман, умница и нелюдим, быть может, одно из перевоплощений бога Гермеса, проводника душ, покровителя магии, управителя снов, певца Мнемозины – неиссякаемого источника воспоминаний: не потому ли так добродушно и снисходительно слушает он байки профессора о спиритических сеансах.
– Чего это ваш коллега столько там возится? – любопытствуют туристочки, – Ищет галстук?
Крымская луна непозволительно роскошна среди ночных ветвей, всей этой живописной китайщины сада.
Мы еще у истоков вод… улу-узеньских, днестровских, вавилонских…
До плача так ли еще далеко?
Русалки выступают во тьме из щелей и расселин скал, поют голосами ветра, слышны мне по опыту одиночества на высотах.
Туристочки спят недалеко от нашей палатки в спальных мешках, лица их землисты и беспомощны во сне, в дьявольском свете этого гермафродита – то это она – луна, то это он – месяц: здесь, в низинах свет этот ворошит негодные мысли, он порочен, а там, на высотах, беспощадно холоден и чист.
Любовь изнашивает мир.
Ветшает плоть, морщится, покрывается пеплом усталости.
Ночной шум вод чудится мне лепетом замечтавшегося при звездах Ангела, душа податлива этим ночным водам, ибо не ведает будущей боли.
Лежу, вспоминаю вчерашнюю последнюю ночь там, на высотах, трепещущее пламя свечи, строки псалмов, самолет, всю ночь гудящий над яйлой, странные мысли о шпионах, которых могут сбросить на парашютах, топор, в порядке самозащиты положенный под изголовье.
Через два дня покидаю Крым. Игнат остается еще на пару недель.
Вместе со стариком провожают меня до причала того же Генеральского. У меня всего-то чемодан с дневниками, парой булок и фруктами из сада, да гитара.
Никакого имущества: удивительная легкость существования.
Море неспокойно. С трудом взбираюсь в катерок, взлетающий на волне над причалом. У горстки пассажиров зеленые лица, им явно не по себе.
Обдаваемый брызгами, взлетая на гребне волны так, что приходится крепко держаться за поручни, вижу в последний раз в жизни машущего мне старика с пером в шляпе, быстро уносящегося, а вернее, относимого самим пространством в забвение, и в этот миг, вся моя юность чудится цепочкой, флотилией таких катерков, швыряемых волнами вверх, но не переворачивающихся.
В Алуште цементная площадь автостанции покрыта лужами, отражающими облачное сентябрьское небо.
Покупаю билет в Ялтинском пароходстве: теплоход "Украина", идущий до Одессы, будет лишь завтра. Оставляю вещи в какой-то дешевой ночлежке с неизменными марлевыми занавесками на узких, как в тюрьме, окошках, иду гулять по вечерней Ялте.
Сижу в кафе за стаканом сухого вина, прощаюсь с Крымом, с Ай-Петри, переходящим к востоку в Бабуган-Яйлу с горой Роман – Кош, а далее знакомый очерк Чатыр-Дага и совсем родственный – Демерджи, и все это единым очертанием навек западает в мою память; выходят из соседнего кинотеатра девочки, вероятно, старшеклассницы, обдавая свежестью дыхания, волнующей тайной своей отдельности, и все это – дешевая клеенка на столике, дешевый стакан, дешевое вино, девочки, почти девушки, не умеющие еще скрыть своего любопытства, – все это несет и замыкает в себе навечно это удивительное мгновение жизни – мгновение прекрасной потерянности в чужом, курортном, полном соблазнов городе.
Горбатые ялтинские улочки с кипарисами скрывают тысячи тайн за каждым поворотом, волна, полная мусора, бьет в угол каменного парапета, оркестр играет на крыше ресторана, у мола, к которому пришвартовывается корабль, идущий в сторону Кавказа, все это сливается, еще более подчеркивая неповторимость моего одиночества; даже робость перед этим полуодетым, украшенным драгоценностями, прожигающим жизнь миром тоже воспринимается частью этого одиночества: не участвуя впрямую, я как бы растворен среди этого карнавального мира курорта, где все приезжие без корней, где все настоено на хмелю, на будоражащем запахе иодистого моря, пота в смеси с солью.