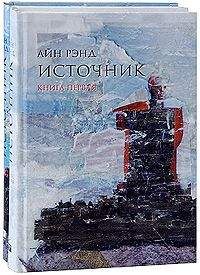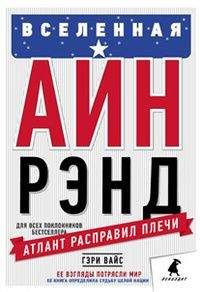— А твоё, Питер? — спокойно спросила она.
Он замер, вытаращив глаза. Она знала, что его мысли в этот момент были чисты, непосредственны и наполнены зрительными ощущениями, что сам процесс размышления заключался в реальном видении тех лет, которые проходили перед его духовным взором.
— Это неправда, — произнёс он наконец глухим голосом. — Это неправда.
— Что неправда?
— То, что ты сказала.
— Я ничего не сказала. Я задала тебе вопрос.
Его глаза молили её продолжать, отрицать. Она поднялась и встала перед ним, напряжённость её тела свидетельствовала о жизни, жизни, которую он пропустил и о которой молил; в ней было ещё одно качество — присутствие цели, но её целью было судить.
— Ты начинаешь понимать, не так ли, Питер? Мне следует объяснить тебе получше. Ты никогда не хотел, чтобы я была настоящей. Ты никогда не хотел ничего настоящего. Но и не хотел, чтобы я показала это тебе, ты хотел, чтобы я играла роль и помогала тебе играть свою — прекрасную, сложную роль, состоящую из словесных украшений, ухищрений и просто слов. Одних слов. Тебе не понравилось то, что я сказала о Винсенте Ноултоне. Тебе понравилось, когда я сказала то же самое, но облекла это в покров добродетельных штампов. Ты не хотел, чтобы я верила. Ты хотел только, чтобы я убедила тебя, что поверила. Моя настоящая душа, Питер? Она настоящая, только когда независима, — ты ведь понял это? Она настоящая, только когда выбирает занавеси и десерт, тут ты прав — занавеси, десерт, религия, Питер, и формы зданий. Но тебе это никогда не было нужно. Ты хотел зеркал. Люди хотят, чтобы их окружали только зеркала. Чтобы отражать и отражаться. Знаешь, как бессмысленная бесконечность, в которую вступаешь в узком зеркальном коридоре. Так бывает в очень вульгарных гостиницах. Отражение отражений, эхо эха. Без начала и без конца. Без источника и цели. Я дала тебе то, что ты хотел. Я стала такой, как ты, как твои друзья, какой так старается быть большая часть человечества, — только без всяких прикрас. Я не ходила вокруг да около, довольствуясь книжными обозрениями, чтобы скрыть пустоту собственных суждений, я говорила: у меня нет мнения. Я не заимствовала чертежей, чтобы скрыть своё творческое бессилие, я ничего не создавала. Я не говорила, что равенство — благородная цель, а объединение — главная задача человечества. Я просто соглашалась со всеми. Ты называешь это смертью, Питер? Но я бы переадресовала это заявление тебе и каждому вокруг нас. Но ты, ты этого не делал. Людям с тобой удобно, ты им нравишься, они радуются твоему присутствию. Ты спасаешь их от неминуемой смерти. Потому что ты возложил эту роль на себя.
Он ничего не произнёс. Она отошла от него и вновь села в ожидании.
Он поднялся, шагнул к ней:
— Доминик… — И вот он уже на коленях перед ней, приник к ней, зарываясь головой в её платье. — Доминик, это неправда… неправда, что я никогда не любил тебя. Я люблю тебя, всегда любил, это не было… просто чтобы похвастаться перед другими, это совсем не так. Я любил тебя. На свете есть только два человека — ты и ещё один, мужчина, кто всегда заставлял меня почувствовать то же самое, это не совсем страх, скорее стена, голая стена, на которую надо забраться, приказ подняться — не знаю куда… Но это чувство возникало… я всегда ненавидел этого человека… но тебя, я хотел тебя всегда… вот почему я женился на тебе, хотя знал, что ты презираешь меня. Ты должна простить мне эту женитьбу, ты не должна мстить мне таким образом… не таким образом, Доминик, я же могу не ответить, я…
— Кто этот человек, которого ты ненавидишь, Питер?
— Это не важно.
— Кто он?
— Никто, я…
— Назови его.
— Говард Рорк.
Она долго молчала. Потом положила руку ему на голову. Этот жест напоминал нежность.
— Я никогда не хотела мстить тебе, Питер, — мягко произнесла она.
— Тогда почему?
— Я вышла за тебя замуж по собственным мотивам. Я действовала, как требует от человека современный мир. Только я ничего не могу делать наполовину. Те, кто может, скрывают внутри трещину. У большинства людей их много. Они лгут самим себе, не зная этого. Я никогда не лгала себе. Поэтому я должна была делать то, что все вы делаете, — только последовательно и полно. Вероятно, я тебя погубила. Если бы это не было мне безразлично, я сказала бы, что мне жаль. Это не было моей целью.
— Доминик, я тебя люблю. Но я боюсь, потому что ты что-то изменила во мне, уже со дня нашей свадьбы, когда я сказал тебе «да»; и даже если потеряю тебя, я не могу вернуться в прежнее состояние — ты взяла у меня что-то, что у меня было.
— Нет. Я взяла что-то, чего у тебя никогда не было. Уверяю тебя, это хуже.
— Что?
— Говорят, худшее, что можно сделать с человеком, — это убить в нём самоуважение. Но это неправда. Самоуважение убить нельзя. Гораздо страшнее убить претензии на самоуважение.
— Доминик, я… я не хочу говорить.
Она опустила взгляд на его лицо, и он увидел в её глазах жалость и сразу понял, какая страшная вещь — настоящая жалость, но это знание тотчас и ушло, потому что он захлопнул двери своего сознания для слов, которыми мог бы его сохранить.
Она наклонилась и поцеловала его в лоб. Это был первый поцелуй, который она ему подарила.
— Я не хочу, чтобы ты страдал, Питер, — нежно сказала она. — То, что происходит сейчас, — настоящее, это я — и мои собственные слова. Я не хочу, чтобы ты страдал; ничего другого я почувствовать не могу, но это я чувствую очень глубоко.
Он прижался губами к её руке.
Когда он поднял голову, она какое-то мгновение смотрела на него так, будто он был её мужем. Она сказала:
— Питер, если бы ты мог всегда быть таким… тем, кто ты сейчас…
— Я люблю тебя, — сказал он.
Они долго сидели и молчали. Он не чувствовал напряжённости в этом молчании.
Зазвонил телефон.
Но не звонок нарушил наступившее было взаимопонимание; его нарушила та радость, с которой Китинг вскочил и побежал к телефону. Она слышала его голос через открытую дверь — голос, в котором звучало почти неприличное облегчение.
— Алло?.. О, Эллсворт!.. Нет, ничего… свободен как жаворонок. Конечно, приходи, приходи прямо сейчас!.. Жду!
— Это Эллсворт, — объяснил он, вернувшись в гостиную. В голосе его звучали радость и нахальство. — Он хочет заглянуть к нам.
Она промолчала.
Он занялся пепельницами, в которых были лишь спичка или окурок; собрал газеты, подкинул в камин полено, которое было совсем не нужно, включил свет. Он насвистывал мелодию из только что вышедшей на экран оперетты.
Услышав звонок, он побежал открывать.
— Как мило, — произнёс Тухи входя. — Огонь в камине, и вы только вдвоём. Привет, Доминик. Надеюсь, я не очень не вовремя.
— Привет, Эллсворт, — ответила она.
— Ты всегда вовремя, — сказал Китинг. — Не могу выразить, как я рад, что вижу тебя. — Он подвинул стул к огню. — Усаживайся, Эллсворт. Что будешь пить? Знаешь, когда я услышал твой голос по телефону… мне захотелось прыгать и тявкать, как щенку.
— Однако не стоит вилять хвостом, — заметил Тухи. — Нет, я ничего не буду, спасибо. А как ты, Доминик?
— Как и год назад, — ответила она.
— Но не как два года назад?
— Нет.
— А что мы делали в это время два года назад? — беспечно спросил Китинг.
— Вы не были женаты, — пояснил Тухи. — Доисторический период. Подождите… что же тогда было? Думаю, что был только что достроен храм Стоддарда.
— А… — протянул Китинг.
Тухи спросил:
— Ты слышал что-нибудь о своём приятеле Рорке, Питер?
— Нет. По-моему, он не работает уже год или больше. На этот раз с ним покончено.
— Да, и я так думаю… Что же ты поделывал, Питер?
— Ничего особенного… А, я только что прочёл «Доблестный камень в мочевом пузыре».
— Понравилось?
— Да! Знаешь, я думаю, это очень важная книга. Ведь это правда, что свободной воли как таковой не существует. Мы не можем изменить ни самих себя, ни того, чем занимаемся. Это не наша вина. Никого нельзя ни в чём винить. Всё это заложено в нашем происхождении и… и в наших железах. Если ты добр, это не твоя заслуга — тебе повезло с железами. Если ты мерзавец, никто не может тебя наказать — просто тебе не повезло, вот и всё. — Он проговорил это с вызовом, с горячностью, не соответствующей литературной дискуссии. Он не смотрел на Тухи и Доминик.
— По существу правильно, — подтвердил Тухи. — Но тем не менее, если обратиться к логике, не следует думать о наказании мерзавцев. Они претерпели не за свою вину, они несчастны и недостаточно одарены и, вероятно, заслуживают какой-то компенсации, даже вознаграждения.
— Господи… да! — вскричал Китинг. — Это… это логично.
— И справедливо, — добавил Тухи.
— Ты широко пользуешься «Знаменем», когда тебе это нужно, Эллсворт? — спросила Доминик.