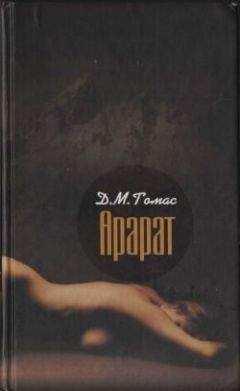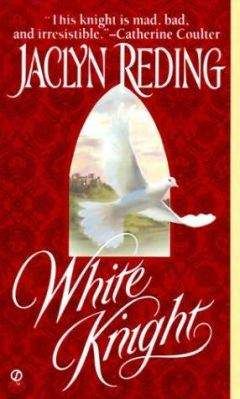Поэтому я одеваюсь и спускаюсь в спортивный зал, надеясь найти еще кого-нибудь, страдающего от бессонницы, и сыграть с ним партию в бильярд или в снукер. Здесь никого нет, но я решаю погонять шары в одиночку. Даже такое скромное упражнение, при котором пепел обильно рассыпается по сукну, может оказаться небесполезным.
Вскоре, однако, мне надоедает бессмысленно колотить по шарам. В конце концов я вешаю кий, взбираюсь на стол и распластываюсь на нем ничком. Это дело мне нравится. Я нахожу, что близость к чему-нибудь ярко-зеленому благотворно сказывается на моем воображении. И тотчас же я ощущаю покалывание в затылке и достаю из кармана блокнот и карандаш. В невыносимо скучной кишиневской ссылке я написал поэму «Кавказский пленник», лежа на бильярдном столе совершенно вот таким же образом. Так, теперь некоторое время я бессознательно черкаю в блокноте – появляются наброски женских лиц, грудей, ляжек и ножек, – затем возникает образ и тянет за собою новый. Я импровизирую.
Дай мне испить мандрагоры…
Шекспир
Импровизатор умолк. Он развел скрещенные на груди руки и опустил взгляд. Затем отер платком свое лицо, усеянное каплями пота. Он дрожал так сильно, что Чарский опасался, как бы он не потерял сознание и не упал с подмостков. Итальянец быстро овладел собой и отступил на шаг назад. Чарский, чья голова тоже кружилась – от восхищения даром итальянца, оглянулся вокруг, чтобы увидеть, какое впечатление произвело представление на слушателей, большинство из которых ничего, конечно, не поняли. В это мгновение секретарь неаполитанского посольства нарушил тишину громким возгласом, что дало толчок для целой бури рукоплесканий. Один или два более смелых духом господина даже рискнули выкрикнуть: «Браво!» Импровизатор нахмурился и поднял руки, пытаясь остановить шум. Он дал знак музыкантам, и те незамедлительно стали играть негромкую мелодию. Плеск утих. Импровизатор закрыл глаза. Затем, когда публика вновь сосредоточилась, он открыл их; они вновь засияли лихорадочным огнем. Он отбросил назад всклокоченные свои локоны, ступил вперед и сложил крестом руки на грудь… музыка умолкла… Импровизатор продолжал:
И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампады,
Курится легкий фимиам,
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном сумрачном покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блистает ложе золотое…
Застыл на страже Мардиан,
В опочивальне ж – пыл движенья;
Сам воздух от предчувствий пьян:
Здесь грянет битва наслажденья.
Тиары груз до завтра сложен,
Браслеты, ожерелья – прочь!
Кто со щитом – тот осторожен,
Но щит не сможет здесь помочь.
Иных пришла пора стараний:
На Клеопатру Ирас льет
Потоки чудных притираний —
Душа от запахов поет.
(Такое Шебу омывало,
Чтоб Соломон ее ласкал…)
И Флавий, хоть смущен немало,
Бесстрашен: битвы час настал.
Дрожит от нежных он касаний
(Хотя утерян шрамам счет),
Как в пору первых испытаний:
Не Марс – Венера в бой влечет.
Исполнена ночных мерцаний,
Река безмолвная течет;
Поля недвижны; пирамиды
Молчат, как те, кого хранят,
И веки Мардиану виды
Непостижимые тягчат;
Сплелись в объятье сонном Ирас
И Чармиан, от ласк устав;
Сон, как шатер, над миром вырос,
В себя все сущее вобрав…
Царица же неутомима:
В ее объятьях – новичок;
Хоть молока и нет, сосок
То в губы тычется, то мимо;
Она младенца то прижмет
К себе, то снова оттолкнет,
То поцелует… Что за муки,
Какие пытки, что за ад
Несут язык ее, и руки,
И голос… То огнем объят,
То ввергнут в холод, стоек Флавий,
Но ночь его пронзает стон —
В ее он чрево погружен;
Расплавленный в кипящей лаве,
Бурлит бесчувственный свинец:
Ведь страсти власть – необорима!
Но и у страсти есть конец…
С Египтом – все! Во славу Рима
Воитель гордый примет смерть.
В походах бранных поседелый,
Он стоек, как земная твердь,
Готов он в новые пределы.
Он знак дает – и евнух жирный
Секиру страшную берет…
Душа, что взмыла в дол надмирный,
Когорты мертвых поведет.
Импровизатор умолк, но его руки по-прежнему были скрещены на груди; в этот раз плеск публики тишины не нарушил. Чарский, чувствуя, что в душной зале его охватывает нездоровая теплота, отер лоб, одновременно мельком глянув через плечо. Некая дама с болезненно-желтым цветом лица напряженно смотрела прямо на него. Поймав его взгляд, она жеманно улыбнулась, а Чарский резко отвернулся и стал глядеть только на подмостки. Он знал ее слишком хорошо; это была одна из тех несчастных женщин, которые преследовали его своими тщетными притязаниями лишь потому, что он был поэт, а они не могли придумать для себя занятия лучше. Теперь, когда он узнал, что ее внимание направлено по большей части на него, а не на импровизатора, он ощущал сильнейшее раздражение. Но импровизация возобновилась, и Чарский тотчас же перенесся в своем воображении в египетский чертог.
Критон, питомец муз и неги,
В ночи, что не познает дня,
За песнью песнь об их ночлеге
Вонзает в сердце из огня.
Но где же мужеская сила?
Ее не лира ль поглотила?
Секира размахнулась всласть —
Так не пора ли ей упасть?
Царица песнью польщена,
Но час спустя – и смущена.
Сомненья, скорбные гонцы,
Со всех являются сторон:
Ужели страстные сосцы
Увядшими считает он?
Плоть, что свежее, чем весна, —
Ужель поблекла и она?
Ужели кажется ему:
Краса ее ушла во тьму?
Но нет – он знает, что заря
Наступит, как ни далека;
Оленьей ласкою даря,
Змеей виясь, она пока
Все чары расточает зря:
Недвижима его рука.
Ее он видит красоту,
Но сбит, как лебедь, на лету.
Увидев свет в очах царицы,
Он весь в предчувствии денницы;
Ласк шелковистых щедрый дар
Внушает: близится удар…
Что за урон ее гордыне!
Ведь с Суламифью никогда
Такого не было; доныне
И с ней – подобного стыда!
Все перепробовав, царица
Чуть дремлет… Небо уж сребрится.
Критон, однако ж, был поэтом:
В воображаемых мирах
Он видел прах весенним цветом,
А там, где цвет, он видел прах.
Страж черной статуей застыл,
В дверном проеме встав понуро;
Критону – что его фигура?!
Он вновь обрел весь прежний пыл.
Киприда ль жертве даровала
В последний раз любовный жар,
Чтоб в громе страстного обвала
Забыл про смертный он удар;
Исход ли ночи успокоил;
Секиры ли недвижной вид
Все силы мужества удвоил,
Отвлек от лепета Харит;
Иль вид царицы обнаженной,
В любовных битвах искушенной, —
Кто знает, в чем здесь дело? Взрыв,
Сметая все, пожар рождает;
Она проснулась, повторив
Все ласки прежние; рыдает
Критон от счастья; а она
В его объятьях тихо тает,
Но думой горькою полна,
Печальным знаньем, что возврата
К цветенью нет: она когда-то,
Как все, издаст последний стон
И в землю ляжет, как Критон.
Лицо импровизатора, до той поры бледное, пылало теперь лихорадочным жаром; глаза его дико сверкали; рубашка была мокра от пота, а белое горло под черной бородой спазматически двигалось, словно кружевной воротник был разорван, чтобы обнажить его шею для топора или гильотины. Насухо отерев лоб платком, импровизатор вернулся к своей теме.
Затем весь день спала царица:
Ведь этой ночью ей опять
Придется в ласках не скупиться —
Пора и юношу обнять.
Бьет полночь; лик его чудесен
Настолько, что весь мир ей тесен!
Ее язык укоренился
В его устах, и их слюна,
Дыханье, пот, что вмиг пролился,
В одно сливаются. Она
В восторге полном: что за чудо!
Юнец, но знает – все! Откуда?
(А Мардиан на страже дремлет,
Стенаньям сладостным не внемлет,
В его виденьях – флейты звук,
Змеи качающейся жало:
Смерть от земных избавит мук…)
Она его в объятьях сжала,
И их тела переплелись,
В едином пламени сгорая;
То вдруг грубея – берегись! —
То нежно, трепетно лаская,
Он доказал едва ль не в миг,
Что он – способный ученик.
Он часто верх берет над нею
И, хоть нельзя сравнить их лет,
Готов затеей на затею
Ответить: здесь различий нет.
Забыт Антоний, Цезарь тоже,
Она – невеста вновь, и с ней
Вновь делит сладостное ложе
Брат – незабвенный Птолемей.
В ту пору сын рожден был ею,
Во всем подобный Птолемею —
Лица тончайшей лепкой схожий
И эбонитовою кожей.
Расстаться с ним пришлось тогда,
Отдав рабу, что был так верен…
Гнев императорский – безмерен!
Но в сердце – с ней он был всегда.
И вот он здесь – горит любовью,
Не ведая, что связан кровью.
Вот эта родинка на лбу
Знакома ей еще с рожденья —
Войдут ли в душу угрызенья,
Что рушит юноши судьбу?
При страшном вызове своем
Она подумала ль о нем?
А может, полагала просто,
Что сын, пусть окажись он тут,
Не мог бы быть такого роста?
Но быстро в Азии растут!
Иль крови царской достояньем
Она считала пыл и страсть
И вызов был рожден желаньем
На нем свою проверить власть?
А может быть, боязнь стареть
Внушила ей, подспудно зрея,
Красу свою суметь узреть
В чертах другого Птолемея?..
Но несомненно, что она
Все наслаждения до дна
С ним испивает до рассвета,
Шепча: «Неповторимо это…»
Заре ж, как Ирас, алогубой,
Что лишь маячит впереди,
Придется ныне дланью грубой
Отнять счастливца от груди:
Будь он племянник ей, иль сын,
Иль страстный друг – ответ един.
Но чуть вершина эвкалипта
Под утро сделалась видна,
Поднялся сын звезды Египта,
Поднес прохладного вина:
«За ночь свершившуюся нашу!
Дабы прошел упадок сил!»
Но перед тем в златую чашу
Он мандрагору положил.
Достал кинжал дамасской стали,
Что ловко прятал в сапожке;
Проснулся Мардиан едва ли
Пред тем, как умер; налегке
Дворец покинув величавый,
Он шел, скакал, порою греб,
А в Малой Азии, за славой
Гонясь, сошел однажды в гроб.
Произнеся последние слова, импровизатор опустил руки, крестом лежавшие у него на груди, отвесил краткий поклон публике и поспешил с подмостков. В спину ему ударил шквал рукоплесканий, он вернулся и поклонился еще раз, от пояса; черные его волосы при этом упали, закрывая лицо. Неистовый плеск длился и длился; и он, продолжая отвешивать поклоны и любезно указывать в сторону музыкантов, вдруг радостно улыбнулся, обнажив зубы, ярко блеснувшие над черной его бородой. С последним глубоким поклоном он вновь покинул подмостки; плеск умолк; последовал шум невнятных разговоров, и те, кто стоял ближе к дверям, начали просачиваться в гостиную, где были накрыты столы, чтобы публика могла подкрепиться во время антракта.