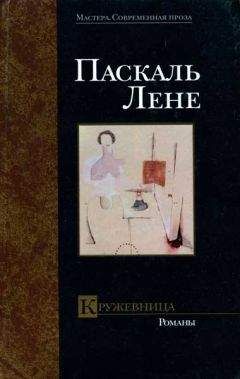Кто-то замечает, однако, что все дело в политике.
— Их одно интересовало — смена правительства… они анархисты… их ничто не могло удовлетворить. Стань все по-новому, они на минуточку успокоились бы на этом, а потом все равно…
В июне в техникум явилась некая парижская студентка, она критиковала «общество потребления». Ее спросили, что это такое. Она не смогла ответить.
— В капиталистической стране люди гораздо свободнее. У каждого капиталиста (под этим подразумевается каждый, кто живет в капиталистической стране) финансовая автономия… В социалистических странах все в руках государства. Как говорит М. Э. (преподаватель политической экономии), прибыли там большие, но эти прибыли не попадают в руки тех, кто работает, их забирает государство.
— Вы считаете, что в нашем обществе прибыль попадает в руки тех, кто работает на заводах?
Признают, что это не так. Прибыль в обоих случаях достается не тем, кто работает; простой народ всегда эксплуатируют; но в капиталистических странах жизнь лучше. Тогда я ставлю вопрос об ответственности хозяина-капиталиста в случае банкротства.
— Правильно, они (рабочие) потеряют работу, но ведь и он потеряет состояние.
Да! К состоятельным людям относятся внимательнее, снисходительнее, доброжелательнее, уважительнее, чем к нуждающимся. Но это, уточняют они, в порядке вещей. У моих учеников развито не столько чувство справедливости, сколько пристрастие к порядку. А порядок, естественный порядок, — это иерархия, неравенство; вот они и защищают неравенство.
Наконец я спрашиваю:
— Ну а вы сами, к какой социальной категории вы относите себя: к рабочим или к хозяевам?
Ни к тем, ни к другим, объясняют мне; к «среднему классу». И это действительно так, крайности им не по душе. Они, разумеется, не «хозяева», но и не «пролетарии». Отец, может, и работает на одном из машиностроительных заводов промышленной зоны, но это еще не делает его рабочим, или, точнее, рабочим, соответствующим тому карикатурному стереотипу «рабочего», который до странности напоминает представления моего буржуазного детства. Но парадокс тут чисто внешний: в обоих случаях этот образ — стереотип буржуазный, у него одна и та же функция пугала; только я был нивой, драгоценной нивой, а мои ученики — птицы; полувороны, полуголуби.
И потом отец может быть рабочим, железнодорожником, мелким буржуа — неважно. Сыновья станут, как им внушают, «служащими», «средним звеном» промышленности или коммерции; они тоже будут жить на заработную плату, но на гораздо более высокую, чем у других. Их будущее обеспечено, умеренное и комфортабельное. В этом-то и состоит функция техникума; дать специальность, само собой. Но главное — привить всем этим молодым людям, быть может изначально непохожим, быть может честолюбивым, быть может даже способным на бунт, одну и ту же тягу к умеренности, к тому, что разумно и «усреднено».
И упрекают меня, не смея упрекнуть вслух, как раз в том, что я со своей кафедры выступаю в роли Ореста или Эдипа; я принадлежу к породе, которая, так или иначе, порождает беспорядок; судьба, как известно, выносит свой приговор в обоих случаях с той только разницей, что одни просто лопаются как мыльные пузыри — вроде парижской студентки, — а другие сотрясают своим падением землю, как обанкротившийся хозяин.
Каждое новое сегодня обрушивается на меня поутру подобно судебному вердикту, подобно приговору. День разверзается передо мной головокружительной бездной, точно до вечера предстоит прожить тысячу жизней. До того момента, когда наконец наступит вечер.
Как-нибудь, возможно, я захочу, чтобы вечер наступил побыстрее; и покончу с собой.
Пойду сам навстречу вечеру; так некогда, ребенком, в приморском городке, я ходил смотреть на умирающее солнце. Я шел, шел совсем один по улицам, еще расширенным, как зрачки, маревом палящего дня; шел, чтобы увидеть, как под соснами тень сплетается с последними языками жаркого света. Шел, чтобы увидеть солнце, чтобы услышать его предсмертный изумрудный вскрик в минуту угасания, удушья в лиловом молчании моря.
Огромным, всякий вечер новым, всякий вечер ни с чем не сравнимым счастьем было видеть там, вдали, но и здесь, как раз перед моим взором, взором, как никогда безмятежным, эту пышную, беспредельную, бесконечную агонию, которую я охватывал единой мыслью, расширявшейся, возможно, до размеров Вселенной.
Ныне я утратил эту способность растягиваться, как вечерние тени, достигая самых дальних горизонтов, достигая миров, в иных условиях неподвластных воображению.
Ныне я страшусь всего, что по ту сторону. Нет! Я не покончу с собой.
Я утратил вкус к жизни, так как слишком боюсь смерти: это нераздельно. Я запутался в существовании, разучившись отвлекаться от него, хоть на мгновение, как некогда, по вечерам, у края ночи, позолоченной пены, горького мерцания небытия.
Каждый из моих дней — приговор, и я молю с надуманным ужасом, чтобы не настал тот день, когда он будет приведен в исполнение.
Я прикрыл биде, поставил стол у окна и перевернул к стене обе картинки (их две) — ту, на которой голая женщина, и ту, на которой натюрморт. Служащие гостиницы промолчали. Каждый вторник, вернувшись в Сотанвиль, я нахожу биде снова открытым, стол — придвинутым к стене и обнаженную женщину, которая все больше смахивает на овощи; придя из техникума, я привожу все «в порядок», это занимает у меня не меньше четверти часа. После чего ложусь, накрываюсь с головой и жду наступления завтрашнего дня.
Гостиница необъятна, так как совершенно пуста.
Я чувствую себя все более и более полым. Просыпаясь утром, я вынужден думать о зиянии, которое нужно заполнить до самого вечера. Разумеется, существуют лекции. Но о чем думать во время лекции? Если я думаю о том, что говорю, это бесполезная преизбыточность. Достаточно уже того, что я говорю.
Потом наступает время обеда. Мертвое время. Мертвое. Я слушаю, как зубы жуют пищу, или, вернее, стараюсь этого не слышать. Разницы никакой. В конце концов это еще не самое худшее. Время, которое я трачу на то, чтобы наблюдать, как функционирует мой организм, вычитается из времени, посвященного существованию. А существование здесь, в Сотанвиле, подчас трудно заполнить. Когда я вижу все эти немотствующие дома на слепых улицах, где жизнь, насколько я могу себе представить, сведена, как и моя, к наблюдению за функционированием собственного организма, я чуть не плачу. Чуть.
Я утратил былую душевную широту; широту, которая позволяла мне смотреть прямо в лицо смерти дня и своей смерти, там за горизонтом. И вот теперь я осужден до конца дней бесконечно отсчитывать, дрожа от скупости, мгновения собственной агонии; агонии, питаемой этими отсчитываемыми мгновениями. Мне предстоит так жить до конца дней или умереть.
Ужинаю я в гостинице, каждый вечер. Я слишком много пью, умышленно. Грезы овладевают мной еще за столом, слегка отяжелевшие грезы; грезы, когда я еще сознаю, что грежу. Потом я потихоньку встаю, осторожно поднимаюсь по лестнице, чтобы не расплескать ни дремы, ни вина, подступающего к губам; и кляча моих ног приводит меня в свою конюшню, в мою конюшню — к кровати, где грезы и вино могут наконец занять горизонтальное положение.
Сотанвиль владеет мной слишком или недостаточно. Слишком, чтобы я мог заняться чем-нибудь, кроме выполнения своих преподавательских обязанностей. Недостаточно, чтобы я мог этим ограничиться. Вот я и совершаю под вечер слишком долгие прогулки, раздумывая о том, чего не делаю.
Я захожу в магазины; прикидываюсь, что намерен купить уйму вещей; часам к пяти отправляюсь в чайный салон на площади, долго выбираю пирожные, которые на сей раз заменят мне ужин. Потом покупаю газеты и возвращаюсь к себе, в постель. И все время думаю о том, на что мог бы употребить время, которое с таким трудом убил.
На чтение, к примеру. Зайти в муниципальную библиотеку и там почитать. Но нет! У меня все равно не хватило бы времени дочитать книгу до конца. Я ничего не сделаю. Я не могу ничего сделать.
Я теперь уже не единственный хозяин своего времени, как в былые годы, и я разучился управляться с тем, которое мне остается. С восьми утра до пяти-шести часов вечера я худо ли хорошо играю свою роль преподавателя. Спасибо и на этом! Позже я — никто. Мне хватает времени только на то, чтобы взять с вешалки пальто. Но не душу, если у меня еще есть таковая. Мне нужен был бы по крайней мере целый день, чтобы собраться с мыслями. Но когда такой день выпадает, я провожу его в поезде; и мчусь домой, в парижскую квартиру, в надежде на встречу с самим собой. Но я остался в Сотанвиле, на вешалке. Я прилип к Сотанвилю, как к клейкой бумаге. Пока я оторвусь от нее, от вешалки, можно трижды съездить в Париж и обратно.
Между техникумом, рестораном, поездами, гостиницей, складыванием и раскладыванием чемодана у меня остаются только клочки времени; корпия.