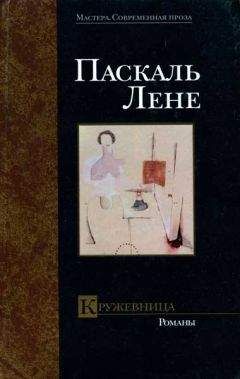Между техникумом, рестораном, поездами, гостиницей, складыванием и раскладыванием чемодана у меня остаются только клочки времени; корпия.
Я хотел познать «мир труда». Какая гордыня! Я обнаружил лишь труд, куски, которые отрываешь от себя и отдаешь за право на жизнь. Таков всеобщий удел. Нужно быть ребенком, вечным ребенком, чтобы так и не смириться со всеобщим уделом.
Сколько я отдаю, сколько оставляю себе этих кусков своего существования? Я уже не знаю. Даже воскресенья, пресловутые воскресенья, которые я начинаю высматривать с другого конца недели, которых жду вплоть до ее разочаровывающего финала, вплоть до скуки этого самого воскресенья — даже воскресенья поражены этим недугом распада моего времени. Я стал скуп на время, трачу ли я его или экономлю. Задача состоит в том, чтобы не испортить себе светлый день еженедельного отдыха. Воскресенье — это подъемные на всю следующую неделю. За воскресный день в Париже нужно их подкопить. Я учусь прижимистости. Я звоню сиделке, той, что выхаживает мое безмолвие. Веду ее в ресторан. После обеда занимаюсь с ней любовью, поскольку знаю, что позднее у меня уже не будет желания.
Потом мы отправляемся к друзьям. Я предпочел бы остаться наедине с сиделкой, но она считает, что я должен встречаться с людьми; не думаю, что ей со мной скучно; нет, не думаю. Но ей нужны люди, чтобы разговаривать, «дискутировать», как она выражается. Раньше я тоже это любил; теперь, после мая, не так уж. Разговор всегда один и тот же. И к тому же у нее куча новых друзей, у которых сумбур в голове, меня от них воротит: слишком у них много идей; люди с идеями — это опасно.
Есть среди них художники, кажется, писатели, бородатые, лохматые, есть молодые безработные (эти никогда ничего не говорят, ждут, пока их спросят; они всегда молчат, так что за них говорят остальные).
Раньше у меня были другие друзья, которые мне нравились; товарищи по факультету; но с ними мы видимся значительно реже, потому что они теперь «реаки». И я тоже «реак», раз я зарабатываю себе на жизнь, вместо того чтобы готовить революцию, если не считать второй половины дня в воскресенье; я «реак», поскольку получаю ежемесячный оклад в две тысячи франков, не считая платы за дополнительные часы; чтобы искупить свою вину, я приглашаю вечером всех к себе, мы пьем; за это мне многое прощают.
Я не смею сказать сиделке, что меня воротит от ее друзей, она устроит мне сцену и потом заставит встречаться с ними еще чаще. Поэтому я слушаю их, пытаюсь понять и избегаю вступать с ними в спор.
Больше всего меня раздражает не смысл их речей, но манера, стиль разговора. Если их понимать буквально, следует завтра же выйти на улицу с оружием в руках, устроить засаду у дверей «Эрмеса» или «Эдьяра», которые являются своего рода «Лютецией» новой оккупации. Да-да! Мы живем в период оккупации!
Ну а я, спрашивают меня, организую ли я должным образом Сопротивление в Сотанвиле? Смешно. Посмотрел бы я, что они станут делать с моими учениками, коллегами, инспектором; посмотрел бы я, как они станут организовывать Сопротивление!
Мне смешно также видеть, как они похваляются своими «молодыми безработными», выставляя их на всеобщее обозрение, совсем как показывали в старину «доброго дикаря» или жирафа. Ну, и черт с ними! Я всех кормлю и пою, все довольны: не такие уж они плохие люди, нужно только уметь с ними обращаться.
В особенности один испанец, высокий грустный парень, длинный, как пасьянс, он мне симпатичен, так как говорит о себе только, что он поэт, и ест с трогательной откровенностью, лиризмом и простодушием.
Но остальные и впрямь слишком агрессивны; они тоже едят, но с таким видом, точно хотят сказать: «С паршивой овцы хоть шерсти клок», а сиделка подбадривает их взглядом. Ну и пусть! Не утащат же они, расходясь по домам, мою мебель, чтобы набить себе руку в предвидении раздела земель и капиталов? Хватит и того, что они стибрили чайные ложечки, которые я привез из сотанвильской гостиницы: это, если угодно, даже справедливо. Но пусть ограничатся этим; на большее я не согласен, даже чтобы доставить удовольствие сиделке.
И потом они, может, и неплохие люди, как я стараюсь себя убедить, чтобы не взорваться, но все же они меня раздражают своим видом поборников справедливости: куда как легко судить людей, судить меня, меня в особенности, когда сам ни черта не делаешь. Я все же что-то делаю; пытаюсь что-то делать; может, и недостаточно; но в конце концов каждую неделю в Сотанвиле я из кожи вон лезу. На словах я, может, и не «завербовался», как они, но на деле «завербован» по уши. Взять хотя бы то, что они жрут, порицая меня и переделывая мир, как будто меня тут нет, а плачу за все я — рассуждение сволочное, не спорю; но против этого не попрешь, нравится им или нет!
По этим причинам или по другим, но денег мне не хватает. Постоянно. Это не трагедия. Согласен. Мать говорит, что мне еще повезло, если я в моем возрасте зарабатываю столько, сколько зарабатываю. Большинству этого никогда не добиться. Это правда. И все же денег мне капельку не хватает.
Или, во всяком случае, у меня их мало, если принять во внимание, как я бьюсь. Вернее, не бьюсь, а подыхаю со скуки. Мне следовало бы получать не заработную плату, а возмещение за дни хандры. Если учитывать только часы, которые я провожу в техникуме, и тем более мои рабочие часы, я признаю, что не имею права жаловаться. Но остается ведь еще все то время, которое я трачу ежедневно, заставляя себя пойти в техникум; и время, когда приходится думать о чем-нибудь другом, после окончания занятий. Чем меньше ты приносишь пользы, тем выше должно быть вознаграждение; слишком уж тяжко бремя собственной бесполезности, от него нельзя избавиться. Контролерам в метро, например, нужно было бы платить целое состояние.
В общем, денег мне не хватает; и ничего удивительного. Настанет день, когда мне нечем будет покрыть мои чеки без обеспечения. И понятно, заставляют меня часами пробивать билетики метро и еще хотят, чтобы я возвращался домой с чувством исполненного долга, читал их газеты и смотрел их телепередачи; и радовался. Дудки. Когда я выхожу с работы, мной овладевает нетерпение, точно мурашки бегают, и они хотят, чтобы на этом закончился мой день, чтобы я его прикрыл? Да это было бы смерти подобно!
Когда я выхожу из техникума, мне необходима разрядка. Вот я и делаю покупки. Покупаю всякую всячину: кучу носков, часы, костюм. А в результате мне нечем заплатить по счету в сотанвильской гостинице или сделать взнос за квартиру в Париже (да, я собственник; ну, пока еще не совсем). Вот я и повесил в Париже — у часовщика, сапожника, портного — объявление: «Дипломированный преподаватель философии дает уроки».
Месяц назад — первый клиент. Высоченное насекомое с длиннющими конечностями; в сопровождении мамаши, низенькой и жирной. Входите, входите! Усаживаю гусеницу и чешуекрылое к своему письменному столу. Сам, важный, почти как врач, занимаю место по другую сторону. Понимаете, говорит она мне, у сына трудности в лицее: теперь в лицеях учат уже не так, как прежде, не правда ли? Она вопросительно глядит на меня.
— Когда прежде?
Она вся напрягается на своем стуле — уж не из тех ли я преподавателей-протестантов, которые портят в наши дни молодежь? Понимаю, что совершил ошибку; вот черт! Мне необходимо продать свой товар, я на мели; так что я спешу поправиться: «Совершенно справедливо, мадам», и дальше в том же духе. Сволочь я! Ладно; она снова заводит свою шарманку: моему сыну в лицее не по себе. Двери и столы там слишком низкие, еда плохая. Посмотрите, какой он худенький! И учителя его не любят; это вовсе не значит, что он невнимателен, напротив; но разве сейчас добродетель в чести? Сами знаете! Добродетель нынче не вознаграждается.
Итак, снова заводится она: учителя его не любят. На днях преподаватель естествознания придрался к нему и к двум его товарищам; сын говорит, что они простояли целый час у стены не двигаясь. Но хуже всего обстоит дело с философией; не так уж она важна, эта философия (благодарю вас, дорогая мадам), но ведь экзамен сдавать придется, вы понимаете? Я-то понимаю, но урок обойдется недешево, старушка!
А он ведь такой прилежный, такой спокойный! Правда! Войдешь к нему в комнату, а он сидит за своим столом, думает, работает или еще там что, так тихо, так неподвижно, что не сразу поймешь, где спинка стула, а где он. Другие в его возрасте безобразничают, а ему только дай в руки книгу или газету, и его часами не слышно, не видно. Спрячется за обеденным столом или за подлокотником кресла до вечера. С места не сдвинется.
Он и в самом деле почти не двигается. Он такой, как говорит его мамаша. И чем дольше она говорит, тем больше и больше он становится таким, тем больше и больше сливается со спинкой стула.
«Удастся ли мне его разбудить?» Оказывается, да. Задаю насекомому вопрос, оно слегка шевелится, слышно легкое потрескивание мертвого дерева. Хорошо. Столько-то за час. Не слишком ли это дорого? Ну что вы, мадам, конечно нет: не так-то легко будет в день экзамена придать жизни вашему неодушевленному предмету.