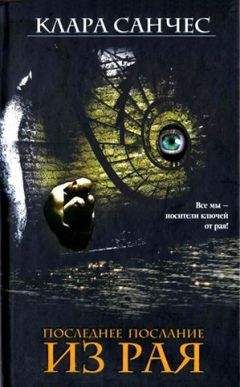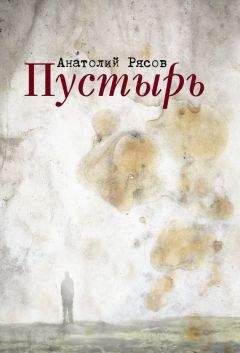– С тех пор прошло уже много времени, два или три года.
– Для тебя много, для меня так, будто это было только вчера.
– Мой отец говорит то же самое.
– А! Да? А я-то думал, что я один старею.
– Ни вы, ни мой отец старыми мне не кажетесь.
– В таком случае зови меня на ты. Просто Серафим.
Мы стояли и смотрели вокруг – на других собак и на то, как по земле поползли тени, а серебристый свет на небе начинал туманиться.
Я так и не стал называть его на ты, однако эпизод с нашими собаками на тропинке несколько сблизил нас. Мне доставляло удовольствие видеть его и переброситься с ним парой слов. И хотя я полностью исчезал из его жизни, как только отходил от него, в моей жизни постоянно оставались его дом, полный различных звуков, и его сад с такими запахами, которых в нашем саду не было, журчание воды в фонтане, лай Одиссея. Иными словами, его вещи оставались в моем сознании больше времени, чем мои в его.
Поэтому его образ, столь далекий и светский, казался таким необычным и неуместным в семейных вечерах с детьми, собаками и шумом домашних дел.
Думаю, Одиссей знал, когда я выхожу в сад, потому что начинал в это время скулить так же жалобно, как животные в консультации Ветеринара, что я интерпретировал как просьбу о помощи.
– Бедное животное, – говорил я, думая об Уго.
– Я тебе уже сто раз говорила, чтобы ты не слушал, что происходит на той стороне, и не смотрел туда. Не так ли? – говорила в таких случаях мать.
Несмотря на это, у меня вошло в привычку бросать через забор между нашими аризонскими кустами ломтики хлеба, галеты, которые я сам ел в этот момент. И когда угощение падало на другую сторону, Одиссей лаял всего один раз, громко и звонко.
– Не стоит благодарности, – говорил я и думал, что вот он обнюхивает подношение, а теперь – поедает его.
………………………………………………………………………………………………………………….
Эду спросил меня, к кому я пришел, – к нему, к Тане или к Уго.
– Ко всем троим, – ответил я.
– Если хочешь, я скажу сестре, что ты пришел.
Я кивнул в знак согласия. Меня все еще преследовала мысль о том, что, когда я явлюсь в дом Ветеринара, Таня, возможно, выйдет ко мне из дальнего темного угла, что ее образ материализуется в моем присутствии.
– Ты меня огорчаешь, – сказала она. – Ты не видишь дальше собственного носа.
– Никто не гарантирован от того, чтобы не обидеть кого-нибудь, и от того, чтобы не вызывать сострадание, я тоже. Так что могу ли я быть уверенным, выслушав тебя, в том, что во мне нет ничего такого, что заслуживало бы сострадания?
Меня удивил голос Тани.
– О чем ты говоришь?
– Я ухожу – не могу все это видеть, – сказал Эдуардо.
Таня наблюдала за уходом брата с обычной для нее печальной серьезностью.
– С тобой что-то происходит? – спросил я.
– Да, я хотела бы поговорить с тобой в беседке.
Мы сели точно под самым центром свода, можно сказать, на троне. Было довольно холодно. Уго уселся с нами, смотрел на меня и вилял хвостом.
– Завтра возьму тебя погулять, – сказал я ему. Таня запустила пальцы в густую шерсть собаки и сказала:
– Я собираюсь выйти замуж.
Не знаю, почему человек всегда стремится проявлять твердость и не замечать слабости, в особенности когда уже не важно, что о нем могут подумать, как это было в моем случае.
– Я этого не ожидал.
– Вообще-то я тоже.
Я смотрел на нее, как смотрят на таинственное небо, потому что не понимал, что кого-то могут удивлять собственные сознательные действия.
– Наверное, это правда, что наш путь предписан нам заранее и что никто не может нас с этого пути свернуть? – Я взял ее за руку и заговорил в манере Эйлиена: – Не важно, ошибаешься ты или нет. Это нечто такое, что уже больше не влияет на будущее, а будущее здесь и сейчас отсутствует. Его нет.
– Я восхищаюсь тобой, вот что я хочу тебе сказать. Я еще не встречала никого, кто в твоем возрасте был бы похож на тебя.
– Я тоже никогда не встречал подобных тебе, правда.
Обстановка располагала к нежности. У меня это была нежность, вызывающая боль, нежность отеческая, навязчивая, которая не влечет за собой поцелуев, объятий и всего прочего, но остается замкнутой в самой себе и делает слабее все, что встречает на своем пути. Я приблизился к ней и прикоснулся к ее щеке своей. Никогда раньше она не была так близко от меня, даже тогда, когда я обнимал ее. Я никогда не чувствовал ее запаха. Ее волосы щекотали мне лоб. Я пребывал в каком-то ином мире. Она положила свои руки на мои, и я слегка прикоснулся губами к ее губам. Она мягко отстранила меня и сказала:
– Мы навсегда останемся друзьями.
– Конечно, – ответил я.
– Меня беспокоит Эдуардо Теперь он будет наедине с родителями. А еще меня беспокоит мать, которой придется жить наедине с Эдуардо и отцом.
У меня мелькнула мысль, что, возможно, Таня, используя замужество, хочет бежать от одиночества подобного рода.
– Ты выходишь замуж за того, кто старше тебя на двадцать лет?
Она кивнула.
– Ты с ним познакомишься. Это очень интересный человек. Все находят его привлекательным.
Мне не хотелось ни знакомиться с ним, ни того, чтобы она выходила замуж, так же как я не хотел, когда был маленьким, чтобы было холодно и чтобы отец поднимал меня с постели перед отправкой в школу.
– Очень жаль, что ты выходишь замуж, – сказал я.
– Обещай мне присмотреть за Эдуардо. Ты – его лучший друг. Он тебе доверяет, и я тоже.
Я огляделся вокруг, чтобы лучше запомнить этот миг.
– Давай-ка войдем в дом, – сказала она и вместо того, чтобы поцеловать меня в щеку, поцеловала в губы, считая, что наши поцелуи в губы тоже были поцелуями чисто дружескими.
Прислуга спросила меня, останусь ли я на ужин. Потом вошел Эдуардо, чье дурное расположение духа сразу же создало в зале иную атмосферу. Затем мы вчетвером – Эду, Таня, прислуга и я – смотрели, как к нам приближается Марина, одетая в ночную рубашку. Волнистые белокурые волосы ниспадали ей до плеч. Сквозь рубашку просвечивали короткие штаны и ляжки, и я отвел взгляд, остановив его на лице, чтобы не показаться невежливым и в то же время не видеть ее всю. Казалось, она что-то ищет, оглядывая комнату. Потом она спросила:
– Звонили?
Поскольку ни Эду, ни Таня ничего не ответили, не говоря уж обо мне, ответила служанка:
– Нет, сеньора, весь день никто не звонил.
– Пожалуйста, мама, перестань о нем думать. Ты хорошо знаешь, что у него все в порядке.
– Я знаю, – сказала Марина и заплакала.
– Если ты будешь плакать, я тоже уйду, – сказал Эду. – Но если уйду, то уже навсегда.
Таня чуть слышно шепнула мне, едва шевеля чудесными красными губками:
– Вот уже два дня от нашего отца нет никаких известий. И это не в первый раз.
Мне не приходило в голову никакого объяснения этому, я не знал, что сказать. Жизнь Ветеринара была для меня такой же загадкой, как жизнь моего собственного отца. И я сказал, что мне пора идти. Мне не хотелось больше ни видеть Таню, ни оставаться в этой атмосфере. Закрыв черную дверь с позолоченной планкой, я словно очнулся ото сна: чистый воздух, машины вдалеке на шоссе. Навес над автобусной остановкой, нормальные люди, недовольные своей службой, огни, разливавшиеся морем звезд. Мне хотелось, чтобы среди всего этого реального мира были бы еще губы Тани рядом с моими.
Моей матери очень понравилось то, что я ей рассказал.
– Так ты говоришь, целых два дня? – переспросила она с одной из своих наиболее радостных улыбок, а потом заметила: – Бедняжка, сейчас у нее, наверное, на душе кошки скребут. Говоришь, она вышла в ночной рубашке? Бедняжка. Она слабеет с каждым днем.
Чтобы было понятно, как далеко зашел я в своем рассказе, упомяну лишь, что я ей рассказал, как служанка приглашала меня остаться на ужин и с каким почтением она называла Марину сеньорой.
– Когда мы переехали сюда, ты еще не ходил. И я повсюду возила тебя в коляске. Я проводила по многу часов в Ипере, кружа по нему, чтобы развлечь тебя. Продавщицы тебя узнавали и угощали конфетками. Но я их у тебя всегда отбирала, потому что не хотела, чтобы ты жирел.
Я ждал, когда она закончит, чтобы разговор у нас получился в некотором роде обоюдным. Но на этом месте она прекратила беседу, надела фартук поверх трико и начала готовить омлет. Пока она готовила, на ее лице появилась деланная улыбка. И тогда я сказал:
– Таня, сестра Эдуардо, собирается выйти замуж.
– Хорошо. А тебе-то что?
Я повел плечами. Вскоре вид стоящего в зале велотренажера рядом с телевизором вернул мне хорошее настроение. Под трико матери угадывались мышцы ног. Я поставил пластинку. Вынул бутылку вина ценой в тысячу песет и два фужера.
– Ты самый красивый в мире парень, – сказала мать.
Я долго смеялся, потому что хотел, чтобы нечто, находящееся в желудке, вышло у меня через рот, а не с другой стороны. Она тоже засмеялась от души. В доме соседа слышались суета вечерней уборки и время от времени – лай Одиссея.