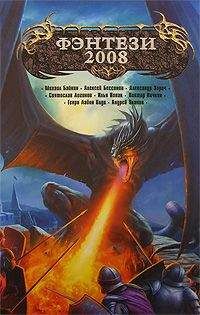И близнецы снова заговорили с Горн.
Братья и сестры поддерживали их. Уф прижимал Скеэ к мальчику, Храм, не в силах это сделать слабыми руками, прижалась сама к загорелой спине Ак. Мэф и Пор поддерживали Храм сзади. Шэ, Борк, Нюз и П держали Уф. Остальные обступили ложе, протянув вперед руки и положив головы на ложе. Сердца их обстояли и поддерживали.
Прошли 23 минуты.
Сердца Ак и Скеэ смолкли. Близнецы были без чувств. Руки братьев подхватили их, положили. Из их ушей и ноздрей потекла кровь.
Застывший Горн вздрогнул. И все почувствовали, как впервые просияло его сердце. Оно наполнилось. И обрело первый покой.
Горн пошевелился. И увидел окружающих его. Все молча смотрели на него. Он оперся руками о ложе, встал на колени. Затем приподнялся и выпрямился. Взгляд его выкаченных глаз стал внимательным и осмысленным. Глаза словно полиняли за эту ночь, став более прозрачными. Синева в них побледнела, стянувшись к зрачкам. Глаза скользили по окружающему миру. Теперь мальчик видел его по-другому: еще не как Горн, но уже не как Миша Терехов.
Мир обступал мальчика. Этот мир теперь был новым. И еще не до конца понятным. Сам по себе он не притягивал. Но что-то в нем было очень желанное. Что-то притягивало и томило. Оно было вкраплено в мир.
Горн повел глазами. Он смутно различил.
Между листьев, неба, ветвей, бабочек, травы и ложа с голубыми лепестками замерли те, кто смотрел на него. И в них было оно. Очень желанное. Что сильнее мира. Без чего уже невозможно жить.
Горн пошел, пошатываясь, на край ложа. Братья и сестры замерли, вглядываясь в него и вслушиваясь. Дойдя до них, Горн протянул руку. И коснулся лица. Это была сестра Шэ. Он стал трогать ее лицо. Сердце Шэ замерло. Рядом с Шэ у ложа застыл присевший Га. Горн коснулся его лица другой рукой.
Никто из братьев и сестер не проронил ни звука.
Птицы покинули тигровое дерево, раскинувшееся над ложем.
Раскрытые губы Горн шевельнулись:
– Боль…шие? Та…кие?
Все замерли, созерцая новообретенное сердце. Мощное сердце. Которого так долго и сильно ждали. Каждое движение Горн вызывало восторг у братьев и сестер. Они словно боялись спугнуть только что проснувшееся сердце.
Горн потрогал лица Шэ и Га. Перевел взгляд на Би, Ут и Форум, подошел и стал трогать их:
– Мно…го? То…же? Та…кие?
Рядом с Форум стояла на коленях Храм. Горн протянул к ней руку. Их глаза встретились. Но Горн уже не смотрел в глаза. Он смутно пытался видеть сердцем. Храм чувствовала это.
– Та…кая? Мо…я?
– Твоя! Сердцем! – произнесла Храм не только губами.
Взяла руки Горн и положила себе на худую, старую грудь:
– Твоя! Сердцем!
Горн замер. Сердце его вспыхнуло предчувствием. Оно начинало ведать. Руки обвились вокруг тонкой морщинистой шеи Храм. Он прижался к ней.
Оцепеневшие братья и сестры зашевелились. Руки их потянулись к Храм и Горн. Сердца просияли.
– Мо…я. Серд…цем, – произнес Горн.
– Сердцем! – прошептала Храм.
– Серд…цем, – повторил Горн.
И понял.
Сердце его замерло. В нем пробудилось прошлое. Теперь оно было отдельно. И оно встало ужасом над проснувшимся сердцем.
Дрожь прошла по телу Горн. Оно сильно дернулось и стало изгибаться назад. Маленький рот его широко раскрылся и выпустил глубокий стон.
Храм сразу поняла, что это.
И все поняли.
Кольцо рук Горн разжалось, голова его запрокинулась. И он упал навзничь на подставленные ладони братьев и сестер. Рыдание сотрясло его.
Храм в сладостном изнеможении закрыла глаза.
Сердечный плач охватил Горн. Он рыдал, суча ногами и царапая пальцами свою белую грудь. Голова его запрокинулась назад, слезы и слюни полетели на лица помогающих.
– Слава Свету! – произнесла Храм, радостно сжимая себя за костистые локти.
Десятки рук подняли рыдающего Горн и понесли по каменистой тропинке к Дому. Плач его раздавался в диком тропическом лесу. Птицы и животные настороженно вслушивались, перекликались в листве, нагретой полуденным солнцем.
У опустевшего ложа остались только Храм и Уф: она сидела на каменистой площадке, сжав себя за локти и положив голову на шелковый угол ложа. Он замер возле угла наискосок. Их разделяло ложе, усыпанное смятыми лепестками голубых роз, подплывших мочой Горн.
Сердца их устало молчали. Это была та самая опьяняющая усталость обретения. Да и какого обретения! Храм и Уф понимали, какого.
– Он сильнее, чем я ждала, – произнесла Храм, проведя щекой по прохладному шелку.
– Гораздо сильнее, – откликнулся Уф.
– Он будет самым сильным.
– Он уже самый сильный.
Порыв ветра с океана качнул кроны деревьев, пошевелил длинные белые волосы Храм.
Голубые лепестки падали с ложа на камень.
– Мы удержали, – произнес Уф.
– Свет помог, – еле слышно шепнула Храм в гладкий угол ложа.
С дерева на ложе упал большой бронзово-синий жук. Лениво заворочался на спине, силясь перевернуться. Черные блестящие лапки его стали комкать лепестки роз.
– Теперь все ляжет на тебя, – сказал Уф.
– Я готова. Я ждала этого всю жизнь, – подняла голову Храм.
– Он обопрется на тебя. Только на тебя. Меня не будет с тобой.
– Я подставлюсь. И удержу.
– Мы поможем Большим Кругом.
– Сначала нужен Средний. И не один.
– Они уже собираются.
– Надо, чтобы у меня была опора.
– Она уже есть, Храм. Мы под тобой.
Уф встал.
– Ты возвращаешься, – поняла Храм.
– Я должен.
– Я знаю. Ты нужен там. Мясо клубится. Ты сдержишь мясо.
– Я сдержу мясо. И сохраню братьев.
Он отвернулся и пошел по каменистой тропинке.
– Храни… – шепнули старческие губы Храм.
Тостер пропищал, и две поджаренные гренки выпрыгнули из него. Наполнив большой стакан ананасовым соком пополам со льдом, Ольга пошла к тостеру.
«Папа и мама», – безотчетно подумала она, отпивая из стакана и выкладывая гренки на тарелку.
Но сразу громко запретила себе императивной фразой:
– Begone![6]
Психолог оказался прав: «меч, отсекающий тяжелое прошлое». Сначала Ольга не верила. Но через полгода после того дня «меч» стал работать и помогать. Он отсекал призраки родителей, виртуально возникающие в любой паре вещей или существ – в стоящих туфлях, в целующихся голубях, в каменных фигурах у корпоративных ворот, в Адаме и Еве, в поднятых президентом двух пальцах, в золотых сережках, в числе 69, в двухтомнике Эдгара По, в спаривающихся мухах, наконец в трехлетнем отсутствии башен-близнецов, которые тогда еще стояли и были видны всем троим из южного окна лофта. Теперь же Ольга смотрела со своего шестого этажа на Манхэттен одна. Да и не на место, где три года назад торчали башни WTC, а на смешные водонапорные баки на крышах соседних домов, всегда напоминающие ей марсиан с обложки романа Уэллса «Война миров». Романа, который любил ее отец. А она так и не прочитала…
– Олечка ха-а-арошая! – произнес попугай в стоящей у окна клетке.
Она вспомнила о нем, о престарелом Фиме, подошла, насыпала корма, добавила воды в поилку, отрезала от яблока кусочек, всунула между прутьями клетки. Фима стал клевать зажатый яблочный кусочек своим страшным клювом, косясь на Ольгу.
«Он тоже помнит…» – подумала она.
И тут же взмахнула невидимым мечом, отсекая:
– Begone!
Фима прожевал, показывая толстый язык, и произнес:
– Don’t wor-r-ry!
– Be happy! – кивнула Ольга и рассмеялась.
Пора начинать день.
Ольга намазала гренки солоноватым козьим сыром «Шавру», положила на каждую по три кружка нарезанного огурца, прикрыла двумя листьями салата, на салат шлепнула индюшачьей ветчины, на ветчину – кружки помидоров, соединила гренки в толстый тост и, впившись в него зубами, прихватив стакан, подсела к компьютеру. Запив ледяным соком прожеванный кусок тоста, ударила по клавише. Монитор ожил, мужской бас нараспев приветствовал:
– Hi, O-o-lg-a-a!
– Привет-салют, – ответила Ольга по-русски.
Глянула почту: четыре письма. Одно – с работы (напоминали, что после отпуска, 16-го Ольге надо быть с контрактом на поставки мрамора в Филадельфии). Другое – от Лизы, из Чикаго (в шестой раз клялась, что приедет «поесть, попить и попиздеть по-русски»). Третье – от Питера, сослуживца отца (приглашал в этот уик-энд на гриль-парти).