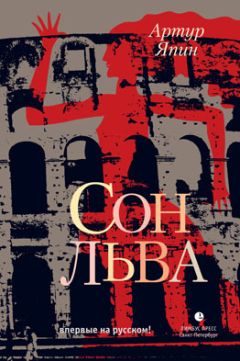— Конечно, тут кое-что всегда может треснуть. — Она рассмеялась и постучала пальцами по виску.
Максим спросил себя, почему его так раздражает беспечность Галы.
— Я не понимаю, когда люди не думают о своем благополучии.
— Ты считаешь, что безопасность — лучшее, что может предложить жизнь? — спросила Гала удивленно.
Наступило молчание. Девушка смотрела на него своими большими глазами. Он вспомнил ее взгляд в ту ночь на пляже. Гала была похожа на зверя в свете автомобильных фар. Максима охватило такое сильное чувство, что он чуть не разрыдался. Он принялся целовать девушку: сначала осторожно, как в первый раз, когда он еще не знал о ее болезни. Но когда Максим почувствовал, как язык Галы скользнул к нему в рот, он набросился на нее, словно от поцелуев зависела его жизнь.
Так, не расплетая объятий, они пролежали весь день и весь вечер на газоне среди нарциссов, в центре площади. Вокруг ходили трамваи, пассажиры пытались разглядеть целующуюся парочку, катающуюся по траве. И что бы там полька ни думала, они оба впервые почувствовали тела друг друга. Время от времени, освободясь от объятий и подняв голову, Максим видел лица пассажиров. Дети махали им руками, прижав носы к стеклу, дородная женщина, державшая сумку овощей на коленях, подмигнула им. Будто все люди знали, что в жизни самое главное. Двое парней подначивали Максима непристойными жестами, а один из водителей проехался вокруг пары еще раз, изо всех сил нажимая на звонок своего трамвая. Влюбленные одновременно расхохотались, но не дали себя отвлечь. Напротив, то, что все их видят, только подстегивало Максима. Словно, демонстрируя себя всему миру, он доказывал, что живет. До сих пор ему казалось, что возможность принять участие в празднике жизни поджидала где-то в другом месте, где-то впереди — в подвальчиках ресторанов, откуда струился свет и доносилась музыка.
— Это было получше, чем тот первый поцелуй, — вздохнул Максим, перекатившись на спину, чтобы отдышаться.
Его Губы горели от укусов Галы. Она оперлась на локти и посмотрела прищурившись, будто глядела против солнца.
Наконец Максим понял, кого Гала напомнила в ту ночь: маленькую девочку, которую он видел в бассейне. Малышка не умела плавать и, дрожа от страха, стояла у края бассейна в своих надувных нарукавниках, глядя на отца, который уже был в воде. Тот протянул к ней руки и жестами приглашал ее прыгнуть. Взгляд девочки был прикован к отцу, словно весь мир вокруг них растаял. Она не могла решиться: шагнуть вперед или отступить назад, и, пока раздумывала, лицо ее исказилось, словно девочке было невыносимо стоять совсем одной. У нее задрожали губы. Слезы выступили на глазах, и Максим почувствовал, что сам сейчас расплачется. Его заворожила невидимая нить, соединявшая взгляды отца и девочки. Папа предал ее, оставив одну, но теперь просил снова ему поверить. И это сработало. Девочку тянула в воду только сила его взгляда. Она уже встала на бортик бассейна, как вдруг горько-горько заплакала, но взгляд мужчины был неумолим. Когда дочь поняла, что назад дороги нет, она сдалась и прыгнула к отцу в воду.
— Какой такой первый поцелуй? — спросила Гала. — Разве ты уже целовал меня?
Максим не сразу понял: девушка не помнила, что происходило во время ее приступа.
— Я, должно быть, просила, чтобы ты мне положил что-нибудь между зубами — деревяшку, тряпку, чтобы не пораниться, а ты подумал… Чудо мое, я же могла откусить тебе язык!
Эта мысль, казалось, ее развеселила. Она, конечно, знала, что у нее был приступ и что Максим ей помогал, но ничего не помнила. Самый интимный момент Максим пережил один.
— Последнее, что я обычно помню, это ощущение, словно кто-то или что-то приближается ко мне сзади, гигантская волна, которая вот-вот захлестнет. После этого я не осознаю ничего, пока не приду в себя. Я хорошо помню, как я очнулась. Это было где-то на песке, да? Ты был рядом со мной, и мне было очень спокойно. Да, теперь я все помню совершенно отчетливо, мы долго лежали на берегу. Ведь так?
Максим не знал, почему, возможно, от счастья, возможно, от усталости, теперь уже оставшейся в прошлом, но он неожиданно так растрогался от воспоминания о дрожащей девочке, что начал плакать. Пока Гала целовала его мокрые от слез щеки, он принял решение в будущем стать достойным такого доверия.
Так, постепенно, я заполняю это огромное, пустое пространство. Пустую оболочку. Я стремлюсь к большим формам и тончайшему воздействию. Я заполняю кадр мельчайшими деталями. Накалываю причудливых бабочек. Мой белый цвет состоит из стольких цветов! Никто из тех, кто видел массовки в моих фильмах, не верит мне, но я стремлюсь к тишине японской гравюры.
Японские гравюры меня всегда зачаровывали. Обычно большую их часть занимает какая-то деталь — ветка, затылок — увеличенные второстепенные элементы, которые вдруг как-то очутились на переднем плане — роскошный веер, гротескная голова актера театра Но.[31] Случайно — по крайней мере, так кажется — они пойманы в тот момент, когда медленно проплывают на переднем плане. Плечо гейши закрывает большую часть Фудзиямы. Зонтик успокаивает уличную суматоху. Лампион, качающийся над дверью на ветру, становится важнее чайного домика.
Я показываю жизнь так, как она является передо мной; самое главное скрывается от нас за огромным бедром, случайно качнувшимся рядом. Я мог бы напрячься изо всех сил и отодвинуть это платье в цветочек, чтобы обнажить истину, но истина не так привлекательна. Если я чего-то не вижу, это не означает, что там этого нет. Если я чего-то не показываю, это не означает, что его не видно.
Пока тело лежит неподвижно, сознание свободно. Плоть устала, но душа устремляется вперед. Поэтому мы видим сны. Тело покоится, но мысли разлетаются во все стороны. Эти ночные видения были для меня всегда важнее дневных заблуждений. Воспоминания о моих снах мне более дороги, чем воспоминания о моей жизни. С пятидесятых годов я веду дневник, куда записываю все свои сны и зарисовываю свои невероятные ночные видения. Они — мое прибежище и моя золотая жила. Я использую их в фильмах. Тогда сны превращаются в мою работу и становятся частью моей сознательной жизни.
До начала съемок следующего фильма у меня свободны все дни и все ночи, и я могу видеть сны. Один проект за другим мелькает у меня в голове. Истории, рисунки, пейзажи — я не знаю, с чего начать.
Сценарий для этой комедии приобретает все более ясные очертания: двое старых артистов варьете встречаются через много лет в больнице. Оба перенесли инсульт и лежат в клинике на Монтеверде.[32] Оба парализованы, но говорить-то они могут! И они начинают общаться с помощью старых шуток. Этим они приводят в отчаянье докторов, но для них самих наступает самый замечательный период в их жизни. Наконец-то успех! Наконец-то они нашли публику, которая не сможет выйти из зала.
Come Prima! «Как раньше!»[33] — могло бы быть рабочее название для этого фильма. Как только смогу, отправлюсь в Японию искать инвесторов для этого проекта.
Кроме того, есть еще одно псевдонаучное исследование, постоянно требующее моего внимания. Это не обычное историческое полотно. В нем описывается эволюция согласно принципу сужения возможностей. Мой тезис состоит в том, что всем прогрессом мы обязаны ограничениям. Не знаю точно, что это значит. Так у меня бывает со всем, что для меня важно. Поэтому я все больше и больше убеждаюсь в том, что я на верном пути. Сквозь мои сны ко мне прорываются обрывки этого бредового исследования. Так что остается только упорядочить мысли. Я представляю себе три части: 1. Бог ограничивает человека; 2. Человек ограничивает Бога; 3. Человек ограничивает самого себя. Весь мир вертится только вокруг этого. Едва понимаешь это, как удивляешься, почему не видел этого раньше: человек делает шаг вперед только тогда, когда во всех остальных направлениях проход закрыт. Как у меня сейчас. Но все получится. Для того, кто придумал Рим, нетрудно придумать и самого себя.
Сразу после войны нам захотелось снимать кино. Мы с друзьями хотели поведать о том, что видели и пережили. Но студии Чинечитты[34] лежали в развалинах. Поэтому мы снимали улицы, используя солнечный свет вместо ламп. Прохожие стали актерами. Так родился неореализм. Потому что других возможностей не было.
Мои герои навсегда остались реалистичными. Они проходят мимо, настоящие люди, на фоне толпы проплывают их ягодицы, их груди, их гримасы. Но этих людей нельзя увидеть целиком. Из-за этого они кажутся огромными, необъятными. Так я их рисую и стараюсь показать жизнь, скрывающуюся за их увеличенным изображением, подобно чайному домику за лампионом.
Вечерами мы с друзьями просматривали на «Мувиоле»[35] кадры, сделанные в этот день, прокручивая вручную сцену за сценой, без звука. И по сей день это лучший способ просматривать фильмы: в маленькой темной комнатушке, без звука, так что маленькое изображение на мониторе должно рассказать обо всем.