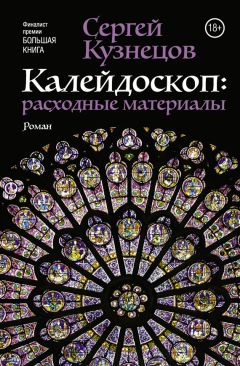Он ошибался.
Джонатан выходит на пятидесятом. Утренняя толчея у лифтов раздражает, как всегда. Отработанным, делано небрежным жестом он поправляет галстук, скосив глаза, смотрит на свое отражение: спортивный тридцатилетний яппи, молодой профессионал. Кожаные туфли ручной выделки, темно-вишневый кейс от «Мэдлера», однобортный пиджак из тонкой шерсти – две пуговицы, лацканы с неглубокими разрезами. Джонатан знает: на Уолл-стрит не любят двубортные пиджаки и слишком заостренные лацканы. Не солидно, слишком по-пижонски.
У него-то все как надо: не зря отдал портному тысячу восемьсот долларов.
Джонатан кивает секретарше; часы над ее головой показывают без шести минут девять. Проходит к своему кабинету мимо расположившихся у мониторов трейдеров. Кое-кто уже снял пиджак, сверкает красными подтяжками. Вот они, властители мира, недавние выпускники Йеля, Стэнфорда и Гарварда, люди, за месяц зарабатывающие столько, сколько родители Джонатана не заработали за всю жизнь!
Ему есть чем гордиться: сын заурядного клерка и секретарши, заурядных жителей еврейского Бронкса, он сумел-таки выбиться в люди. После обычной школы – в хай-скул Томаса Джефферсона, оттуда – в Гарвард, а следом – в гарвардскую Юридическую школу.
Четверть его однокурсников происходили из респектабельных белых протестантских семей, где Гарвард заканчивало несколько поколений кряду. У них были деньги, старые деньги. Им некуда было спешить. Они думали: мир принадлежит им. Верили: банки, сталелитейные заводы и нефть будут вечно править этим миром.
Они ошибались, а прав был Джонатан: он выбрал рынок ценных бумаг, вялый и не суливший больших барышей. Кто мог ожидать, что бум восьмидесятых вознесет Джонатана на самый верх пирамиды, поселит в шестнадцатикомнатную квартиру на Парк-авеню и в отдельный кабинет фирмы «Эй. Эм. Пайер»? Никто – кроме самого Джонатана Краммера. Теперь, вспоминая своих заносчивых однокурсников, он думает: его дочь будет намного богаче их детей.
Почему-то Джонатан уверен, что у него будет именно дочь, – сам не знает почему. Слишком яркая картинка стоит перед глазами: маленькая принцесса держит за руку респектабельного, уверенного в себе отца.
На полированном дубовом столе в личном кабинете – три огромных монитора, по черным экранам ползут зеленые цифры. Дочь Джонатана – если она у него будет – увидит черно-зеленый компьютерный узор только в фильме «Матрица»: графические интерфейсы уже на подходе. Джонатан, как всегда, чует, откуда дует ветер, – в длинных позициях у него Apple, IBM и Microsoft.
До плоских жидкокристаллических экранов тоже осталось лет десять-пятнадцать – и пока биржа с гроздьями пузатых мониторов, зависших под потолком, напоминает инсталляцию Нам Джун Пайка.
Джонатан убежден, что цены на работы корейца взвинчивают его коллеги-трейдеры – небось видят что-то неуловимо родное в монументальных композициях с буддами и телевизорами. Норме даже в голову не приходило, хотя это она профессионал в том, что касается арта.
Люди искусства вообще плохо понимают скрытую механику рынка – даже если это арт-рынок.
Джонатан берет трубку радиотелефона – по-своему столь же массивную, как и мониторы на столе.
– Милая, привет. Поужинаем?
Каждый раз, услышав голос Нормы с ее новоанглийским акцентом, Джонатан усмехается про себя. Если бы родители дожили, они бы сказали, что он путается с шиксой, – но, черт возьми, ее гойские предки обживали берега Потомака, когда его идише предки прятались от козаков по своим польским и венгерским местечкам. По идее ее должны были бы звать «Норма-младшая-младшая» или даже «младшая-младшая-младшая», потому что Бродхеды питают пристрастие к имени «Норма» и помнят свою родословную минимум до середины XIX века.
– Да, только не поздно, – говорит Норма, – я же улетаю сегодня в Бостон.
Черт, опять забыл! – думает Джонатан. – Вот дырявая голова!
– Конечно, я помню, – говорит он. – День рождения троюродной бабушки? Или юбилей двоюродного дяди? Короче, большой семейный съезд Бродхедов и всех-всех-всех.
Норма смеется. Слава богу, пронесло. Только скандала в начале рабочего дня не хватало.
– В семь у La Boue d'Argent, – кивает он, – договорились?
Цифры на мониторе, деньги на счетах, голоса брокеров в телефонной трубке. На самом деле Джонатан работает не в кабинете – его разум хищной птицей летает по информационному суперхайвею, в пространстве сверкающих силовых линий, в галлюцинаторном мире, где стоимость акций то распускается волшебным цветком, то схлопывается хищной актинией. Не то Кастанеда, которого Джонатан не читал в колледже, не то фильм «Трон», который он не смотрел ни в кино, ни на видео.
Джонатан не любит ни книги, ни фильмы. Из всей индустрии развлечений он признает только world music и contemporary art. Музыка подчеркивает достоинство hi-fi-стереоцентра Bang & Olufsen, а искусство – о, искусство имеет тенденцию дорожать!
Так Джонатан и познакомился с Нормой Бродхед – выпускницей Нью-Йоркской школы визуальных искусств, наследницей старинной WA S P’овской семьи, живым воплощением тех самых старых денег. Девушкой, которая могла себе позволить не беспокоиться о карьере и не думать о финансовых перспективах, а держать небольшую галерею в Сохо. В галерее выставлялись только те художники, которые нравились Норме.
С точки зрения Джонатана, такой бизнес-подход никуда не годился – если бы Норма допустила его, Джонатана, до управления галереей, он бы выстроил сбалансированную стратегию, диверсифицировал риски, разработал долгосрочный план. Однажды он не удержался и изложил свое видение:
– Надо вложиться в тех, кто точно будет расти. Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, французы начала века… застраховать как следует и повесить в галерее, объявив, что они не продаются, потому что ты очень любишь эти работы. А когда люди потянутся к тебе, как в Метрополитен или МоМА, сможешь впаривать им любое современное фуфло с маржой процентов 50 % как минимум. Потому что у тебя будет репутация женщины, которая так прекрасно разбирается в искусстве, что может позволить себе не продавать Уорхола и Шагала.
Они лежали в огромной спальне Джонатанова лофта. Минуту назад Джонатан гладил полные груди Нормы (да, когда такое лежит в ладони, сразу чувствуешь: весь мир – твой!), но пока говорил, рука замерла – он весь сосредоточился на словах, на идеях, которые так щедро ей дарил.
Норма поджала тонкие губы и передернула плечами:
– Милый, мне не интересно. Слишком скучно. Занимайся своими акциями, а мои картинки оставь мне.
Джонатан замолчал и вернулся к Норминым грудям. Он знал, что прав: стратегия математически выверенная, учитывает движение рынка и психологию потребителя. Как всегда, когда его предложения отвергали, он обижался и злился, будто отвергли его самого. Доктор Кац много говорил с Джонатаном об этом – но в тот раз удалось обойтись без его методики: в постели у Джонатана были свои способы вернуть уверенность в себе.
Впрочем, горечь осталась, и в следующий раз он очень нескоро заговорил с Нормой о ее галерее.
Звонит настольный телефон. Секретарша говорит: какая-то журналистка просит об интервью. Джонатан плохо слышит название газеты – у другого уха трубка радиотелефона, – разбирает только слово «Гарвард». Понятно, что это Harvard Business Review, – кто же еще может ему звонить?
– Да, соедини, – говорит он.
Интервью всегда приносит новых клиентов, поднимает цену Джонатана на рынке. Такими случаями не бросаются.
– Здравствуйте, мистер Краммер.
Юный девичий голос. Что они, стажерку к нему послали?
– Меня зовут Моник. Я хотела бы взять у вас интервью для нашей газеты. Я знаю, что вы занятой человек, но редактор сказал, что сегодня – последний срок. Могли бы мы встретиться вечером?
– Сегодня вечером я занят, – говорит Джонатан, – впрочем, постойте… в десять вам будет не поздно? Нет? Вот и отлично.
– Я хотела бы приехать к вам домой, сделать несколько снимков в интерьере… – говорит девушка.
– Хорошо, – соглашается Джонатан, – записывайте адрес.
Видать, большое интервью, думает он. На несколько полос и с фотографиями!
Вечером, спускаясь в лифте, Джонатан снова вспоминает Часы Судного дня. Впервые за шестнадцать лет перевели стрелки назад! Если Кора Мартин об этом узнала, наверное, вздохнула с облегчением.
Впрочем, навряд ли.
Полтора года назад Джонатана окликнули на выходе из бизнес-зала JFK:
– Джонатан! Джонатан Краммер!
Он обернулся: немолодая полная женщина, лет сорока с лишним, расплывшаяся фигура, платье, вышедшее из моды уже лет пять как – если вообще когда-нибудь было в моде.