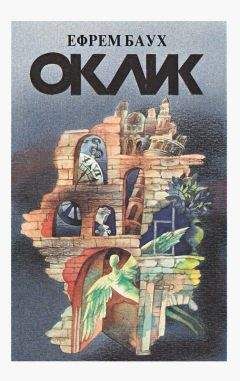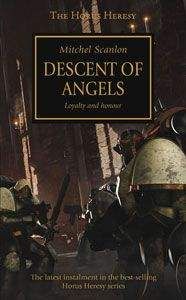Посты – на крыше двенадцатого этажа, а ты дежуришь на улице, у входа, укрывшись за стеной, и стреляющая бейрутская ночь щетинится тысячами трассирующих линий, ночь в городе, в котором, кажется, все страдают бессоницей и каждый жаждет об этом сообщить единственным способом – дать очередь в небо; вдруг – шум, беготня, приехал командир дивизии, агенты безопасности, десятки машин, перекрыли ходы-выходы, выволокли какого-то типа, в пижаме, дрожащего: оказался шишкой в террористической организации "Мурабитун"; он еще вам сигареты бросал из окна.
Всю ночь глаза мои сухи и тяжело дышать от этого бессмысленного бега – побега в воспоминания, которые в этом безмолвии оборачиваются молитвой, заполняющей пустоту между мною и Богом.
В четырех стенах слова, отзвучав, достигают молчания.
Бой часов у соседа зловеще-мелодичен.
Тишина фальшива, пепельна, предстает изменницей: ведь там глохнешь от смертного боя иных часов.
Весь мир в приемнике, как разболтавшаяся салонная сплетница: брань, визг флиртующей бабы, перекрывающий плач ветра и безутешных химер в развалинах города привидений, в котором ты сейчас обитаешь.
И потому все вещи, привычно окружающие меня в этот предрассветный час, лишены смысла из-за их чересчур прилежной соразмерности.
Ночь это лишь эхо и тени: из тени – в подобие сна, из сна – в боль, из боли – в эхо.
Когда высматриваешь глаза, и зазубрины пустой дали зазубрены наизусть, они назойливо лезут в глаза зубцами качающихся весов: их стрелку колеблют твои ожидание и страх, надежда и безразличие перед этим страхом.
И восходит солнце нашей с тобой пронзительной связью, хотя пространство крошится в зубах гор.
Где направляющий облачный столб в пустыне лет?
Бульдозер безжалостно сверкающим на солнце лезвием срезает стены дома моего детства, и столб пыли, ведущий в никуда, вздымается в небо.
В такие мгновения я ощущаю всю нелепость веры в то, что ты – мое второе "я". Ты – против меня, ты – бунт, жажда освободиться, действие назло, вопреки: только бы не слишком ретивым было это стремление к обрыву пуповины – спешка чревата необратимой болью. Но в эти мгновения я понимаю тебя, я даже ощущаю эту борьбу во мне против самого себя как еще один залог твоего спасения.
В какой-то миг голоса всех далеких и близких сливаются в единый оклик, вместивший в себя голоса всех ушедших в Ад, прошедших Чистилище и печально замерших у ворот Рая…
17 сентября: канун Рош-Ашана. Западный Бейрут. Странная атмосфера опасности, несущей гибель из-за каждого угла, из любого окна, пролома, щели, и не-прекращающейся клоунады, словно обитатели этого сюрреалистического города не живут, а все время играют роли в нескончаемом кровавом представлении.
Вот и вы вступили в роль: караулите на шлагбауме, недалеко от здания ООП[122] – уличная клоунада в разгаре: один живописней другого возникают «осведомители», сплошь «кептэны»[123] – Юсуфы и Валиды, все щеголяют пистолетами у бедра, странная порода эфемер, которых свои же потом вылавливают и приканчивают; сопровождаете их к комбату: ему они несут адреса тайников, где террористы держат оружие и пытаются укрыться от израильской армии; а на шлагбаум катятся нескончаемой клоунадой машины послов, расцвеченные флажками, машины прессы и телевидения, ощетиненные трубами фото и кинооператоров, общелкивающие вас со всех ракурсов, машины ливанцев, притворяющихся дурачками и прущих напролом, пока не упрешься прямо в лоб дулом автомата и не заставишь их свернуть, машины каких-то арабов, однако предъявляющих израильские пропуска; пестро выряженные ливанские офицеры и полицейские опять же с пистолетами, проезжая, отдают вам честь; солдаты же ливанской армии проносятся уже на вовсе фантастических автомашинах, и у всех дико воинственные лица, автоматы в одной руке, поднятые кверху; иногда как-то бочком к вам притуливается часовой все той же мифической-ливанской армии, наодеколоненный старичок в туфлях на непомерно высоких для мужчины каблуках, картинно держащий наискосок – как бы наизготовку – гранатомет и, конечно же, с неизменным пистолетом на бедре; устав держать гранотомет на весу, он опирается на него как на палку.
Напор машин не ослабевает.
– Мамнун![124] – кричит Офир тонким голосом.
– Что за голос? – говорит комвзвода Ярон, – что подумают о нашей армии? А ну-ка, Хальфон.
– Мамнун! – басом рычит детина Хальфон.
Ты останавливаешь жестами, чем сбиваешь с толку водителей.
После обеда несете охрану на трех подступах к пятиэтажному зданию ООП под прикрытием сожженных автомашин. Время от времени возникает перестрелка, как-то лениво и сама по себе гаснущая.
Три первых этажа здания ООП забиты машинами с зенитками, горами ящиков с патронами, автоматами, пулеметами, завернутыми в целлофан. В глазах пестрит от русских надписей – "Брутто. Нетто. Осторожно".
В первый раз, ворвавшись в здание, вы нашли на верхних этажах, где располагался отдел пропаганды, среди гор плакатов, брошюр, видеокассет, пачек израильских газет с фотографиями убитых террористами израильских детей и женщин, груд странных "икон" (скрещенное оружие на фоне силуэта Израиля, эмблема ООП – почти фашистская свастика: лишь очертания углов смягчены) – парашют и летный комбинезон в кровавых пятнах Аарона Ахиаза[125] с его именем, оттиснутым на ткани.
Портреты Маркса, Брежнева, Арафата глядят на вас со стен, обклеенных обоями лиц: увеличенных фотографий из израильских газет – детей, женщин, мужчин, погибших во время террористических актов; в шкафах пачки незаполненных грамот, на которых вместо эмблемы – снимок одиннадцати израильских спортсменов, убитых в Мюнхене.
На следующий день, первый день Нового года, вы опять у шлагбаума, рядом с тобой толстый, как слон, Хальфон и похожий на мышь Шабатон.
В седьмом часу уже совсем темно. На улице, спускающейся к шлагбауму сверху, внезапно стрельба из пистолетов, что-то катится по мостовой к вам, вниз; скорее инстинктом, чем сознанием поняли – граната. Ничком – на землю, почти друг на друга. Взрыв. Вот и подарочек на Новый год.
Утром комвзвода поднимает вас вслед за очередным "кептэном" брать в кафе переодетых террористов – по неуловимому движению пальца или глаза идущего как бы стороной с безразличным лицом "кептэна".
Получаешь отпуск домой.
Армейская мусорка довозит до бейрутской набережной: приходится зажимать нос.
Прощальный взгляд на вытянувшиеся во весь рост вдоль набережной финиковые пальмы, за которыми, словно в засаде, беззвучно затаилось море, на огромные распотрошенные снарядами здания, бесстыдно выворачивающие свои внутренности на ослепительном солнце.
Попутная, загруженная кольцами колючей проволоки, до Дамура. У моста через реку Захарани "фордик" с израильским номером: "Куда?"
"В Тель-Авив", – произносится как внове, с удивлением, которое невозможно скрыть.
И вот уже мелькнул шлагбаум у Рош-А-Никра, граница Израиля, и вот уже звонишь домой, спрятавшись у Тель-Авивского муниципалитета от всех, проезжающих мимо, узнающих по цвету пыли и черному от грязи лицу солдата из Ливана, настойчиво предлагающих подвезти.
Еще будет гора Джебель Барух над шоссе Бейрут-Дамаск, пик твоей юности, быть может, и всей жизни, как крымские Демер джи и Чатыр-Даг были пиками моей жизни.
С ангельских высот увидишь в подзорную трубу муравьиные бои у подножья, дергающиеся от выстрелов орудия; усилив видимость до предела, различишь почти рядом чьи-то руки, вталкивающие снаряд в ствол, и – в растворяющейся дали – пригороды Дамаска с ползущими, опять же как муравьи, машинами.
И еще будет однажды вялое послеполуденное время, изматывающе долгие тени, и впротивовес чистейшей, как водопад с гор, сонате Моцарта, разыгрываемой дочерью за стеной, внезапная тоска, тяжелое предчувствие, а к ночи – крик одинокой птицы с крыши соседнего дома и холодная влага луны, пролитая по стенам и грудам бумаг на столе.
Потом выяснится: в эти полуденные часы вы, несколько человек вместе с комбатом, спуститесь на вертолете в отвесное ущелье под Джебель-Барух выкурить скрывающихся в пещерах террористов, рассыплетесь цепью, и один, выскочив из пещеры, упадет, срезанный очередью, второй выберется с поднятыми руками, но первый внезапно выстрелит и попадет стоящему рядом с тобой и Мор-Йосефом комбату в пах; "Мина", крикнет комбат и упадет; врач сделает ему успокоительный укол; сумерки стремительно приближаются, вертолет не может опуститься, ибо с наступлением темноты сирийцы открывают огонь по всему, что летает; положив на носилки раненого, беспрерывно меняясь, да еще с пленным впридачу, вы будете идти вверх по крутой тропе, под отвесным водопадом луны, с каждым шагом все более остро обозначающим увеличивающуюся слева от вас пропасть, и лишь к двенадцати ночи доберетесь до вершины.