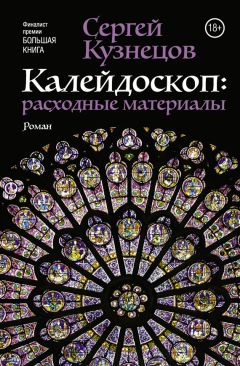Полтора года назад Джонатан и Норма вместе бродили под таким же снегом. Той ночью умер Энди Уорхол, художник, который их познакомил, когда Джонатан пришел в галерею купить несколько «смертей и катастроф». Вот почему той ночью Норма позвонила ему, и невесомые хлопья опускались на них с небес напоминанием о серебристом парике Энди. Снежинки замирали на ресницах Нормы и таяли на губах Джонатана, когда он целовал ее.
Снег чертил влажные дорожки на их щеках, и от этого казалось, что они оплакивают Уорхола слезами, которых у них давно уже не было.
Надо сказать доктору Кацу, чтобы прописал мне новые таблетки, думает Джонатан. Все говорят о них последнее время. Что-то на «п», уточню завтра. Пусть химия поработает – а то от этой говорильни вообще никакого толку.
Джонатан стоит у окна. Отчаяние заполняет его душу. Так старый шпион, умирающий от рака, смотрит на огни распростертого перед ним города. Скольких он сумел обмануть – но смерть не обманешь. И этот вечно изменчивый город… он переживет его и всех нас.
Больше всего Джонатану хочется позвонить Норме, но он не знает номера. Можно, конечно, попросить секретаршу узнать телефон Бродхедов в Бостоне… хотя, впрочем, уже поздно.
Джонатан оборачивается. Так и есть: на часах полночь без шести. Не время для звонков.
Джонатан засыпает. На зыбкой грани между явью и сном он видит Кору Мартин с ее русским любовником-таксистом. Таксист одет в униформу, почему-то напоминающую эсэсовский мундир. Ядерный взрыв, говорит он, – это великое превращение, великое делание алхимиков. Мы должны сгореть в атомном пожаре, дабы исполнить волю Господа.
Потом он уходит, и Кора одиноко раздевается в своей спальне. Обвислые груди, раздутый живот, раздавшиеся жирные бедра. Она достает из комода выпускную фотографию и долго смотрит на молодого Джонатана Краммера, молодого Роберто Кривелли, на юную Кору Мартин, еще не знающую своей судьбы.
Потом она опускается на колени. На стене – католическое распятие.
– Господи, – говорит Кора, – сделай так, чтобы была настоящая война. Пусть все погибнут, сгорят в очистительном огне. Почему ты выбрал уничтожить только меня? За что мне это, Господи? Я ведь была хорошей девочкой, правда?
Кора плачет, Джонатан засыпает, и в его сне вражеские самолеты пикируют на Нью-Йорк, указательным пальцем Бога вонзаясь в самую большую в мире мишень. Джонатан видит рушащиеся небоскребы, огонь пожаров, прыгающих из окон людей, и даже во сне его раздражает, до чего все это похоже на дурное голливудское кино.
Утром – опять такси, Парк-авеню, школьный автобус, Уолл-стрит, лифт, пятидесятый этаж. Джонатан кивает, здоровается, улыбается. Лучшие люди Америки – вот они кто такие!
Телефонный звонок.
– Мистер Краммер, это вчерашняя журналистка. Соединить?
Джонатан морщится. Ну, что уж тут поделать.
– Да, соедини.
В трубке – напряженный голос Моник:
– Мистер Краммер? Я хотела бы с вами поговорить.
– Хорошо. Я занят сегодня, но мы можем встретиться на той неделе.
В самом деле – почему нет? Джонатан вспоминает трогательные грудки, цепкие объятия тонких рук, срывающийся вскрик финального оргазма… нет, вполне неплохо, почему бы не продолжить?
А Норма? Что – Норма? Он не может переделать себя для нее. Значит, они расстанутся.
– Нет, мистер Краммер, нам лучше поговорить сегодня. Вы не могли бы выйти в кафе на углу Пайн и Бродвея где-нибудь минут через сорок?
Посреди рабочего дня? Она с ума сошла. Это совершенно невозможно.
– Хорошо, – говорит Джонатан, – только ненадолго.
– Спасибо, мистер Краммер. – Моник вешает трубку.
Мистер Краммер! Звала бы уж Джонатаном, раз так все получилось.
– Понимаете, мистер Краммер, я не знаю, как сказать вам, это очень неприятная история… я не знаю, как мне поступить… я даже звонила старшей сестре, посоветоваться, и мы решили, что лучше всего поговорить с вами. Понимаете, вчера ночью, прослушивая запись на диктофоне, я вспомнила, как все было… понимаете, мистер Краммер, мне кажется, вы меня изнасиловали. Нет, не перебивайте, пожалуйста, дайте мне договорить. Вы сильный мужчина, я не могла вам долго сопротивляться. Вы насильно раздели меня и вынудили к сексу, хотя я несколько раз сказала вам, что не хочу. Поймите, я бы с радостью поверила, что у нас был секс по взаимному согласию, вы видели вчера – я даже пыталась сделать вид, что все нормально. Но у меня больше не получается. Я чувствую себя изнасилованной. Поверьте, это очень неприятно.
Джонатан сидит неподвижно. Липкий пот течет по спине. Джонатан сразу понимает, что это значит: даже не его слово против ее слова. Магнитофонная запись. Улика. И она там говорит «я не хочу» и просит перестать. Почему он не остановился? Зачем ему сдалась эта девчонка? Ну да, он был пьян, он зачем-то нюхнул кокса, но ни один суд, о Боже, ни один суд не примет это в качестве смягчающего.
– Но ты же кончила, – говорит Джонатан, – ты возбудилась. Мне казалось, у нас была такая игра.
– Я возбудилась и кончила, – кивает Моник. – Или сделала вид, что кончила, какая разница? Понимаете, мое тело, возможно, получило удовольствие, но я, как человек и как женщина, чувствую себя изнасилованной.
О Боже. Статья в «Нью-Йорк Таймс». Демонстрации феминисток у офиса «Эй. Эм. Пайер» и на Парк-авеню. Как минимум – конец карьеры. Человеку, который заманил к себе в дом девушку двадцати лет и изнасиловал, никто никогда не доверит деньги. Даже если он лучший трейдер на свете.
Господи, молится Джонатан, сделай так, чтобы это рассосалось. Как-то само исчезло. И тогда – я остановлюсь. Я помирюсь с Нормой. Я стану другим человеком. Я перестану рваться вперед как в последнюю атаку.
– Я верю, мистер Краммер, что вы хороший человек. Я даже верю, что вы не понимали, что делаете. Может, вы нанюхались кокаина, может, вам показалось, что я хочу секса… я понятия не имею, почему это случилось, мне нет до этого дела! Я не хочу понимать, почему вы так со мной поступили!
Голос Моник срывается. По-моему, она все-таки кончила по-настоящему, думает Джонатан, но эта мысль – как тень от облака, скользящая по равнине. А сама равнина, словно саваном, укрыта снегом, и от нее веет ледяным холодом, животным ужасом.
Господи, молит Джонатан, сделай, чтобы все обошлось. Пусть она только не идет в полицию. Я изменюсь, честное слово – изменюсь. Я женюсь на Норме, у нас будут дети. Моя дочка будет ходить в «Толливер». Каждое утро я стану за руку водить ее до автобуса. Только, пожалуйста, пусть сейчас все обойдется.
– Я не знаю, что мне делать, мистер Краммер, – говорит Моник, и Джонатан видит, что она вот-вот заплачет. – Я прекрасно понимаю, что будет, если я пойду в полицию. Я не хочу сажать вас в тюрьму. Но сделать вид, что это была такая игра, я тоже не могу.
Она не хочет идти в полицию, думает Джонатан, спасибо тебе, Господи. И отдельное спасибо, что это – изнасилование, а не инсайдерский трейдинг.
– Моник, – говорит он, – я чувствую себя просто чудовищно. Я ужасно перед вами виноват. Мне кажется, тут не может быть никаких оправданий. Но, возможно, вместе мы сможем придумать какой-нибудь вариант… я не знаю… компенсации, что ли? Искупления?
Они сидят друг напротив друга: тридцатилетний мужчина в шерстяном однобортном костюме за тысячу восемьсот долларов и совсем молодая девушка в дешевом красном пиджачке. Ее рыжие волосы – как сияние вокруг головы. А над ними часы на стене кафе показывают без трех минут двенадцать. И тонкая длинная стрелка отсчитывает свои секунды.
* * *
Он протягивает руку и берет с тумбочки очки. Из темно-золотого пятна, мерцающего в ложбине между подушками, проступают знакомые дневные черты: рыжие волосы, припухшие губы, румянец на скулах, распахнутые глаза. Взгляд скользит ниже, туда, где дыхание колышет тонкие ключицы, где темнеют ареолы на полусонных усталых грудях.
Она натягивает простыню, дремотным, полуобморочным движением поправляет медный локон, прилипший ко лбу, и просит:
– Расскажи мне что-нибудь.
Рука нащупывает пачку сигарет, огонек зажигалки дважды повторяется в стеклах очков, блеклый дым вливается в сумрак спальни.
– Что тебе рассказать?
– Ну, расскажи о себе.
– Ой, нет, – мужчина морщится, – лучше какую-нибудь историю.
– О любви?
– Как получится, – отвечает он, – может, и о любви.
Женщина улыбается и закрывает глаза. Серый пепел падает на простыню, но мужчина не замечает.
– Ну хорошо, – говорит он, – только с чего же начать, какими словами?..
25
1980 год
Вечное возвращение
За свою жизнь я много раз прощался, прощался навсегда. Я знаю горький дух прощания, вкус его слов.
В английском farewell – пожелание хорошего путешествия, дальней дороги, бесконечного водного пути к Гринленду, к заморским колониям, над которыми никогда не заходит солнце.