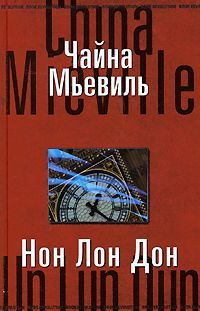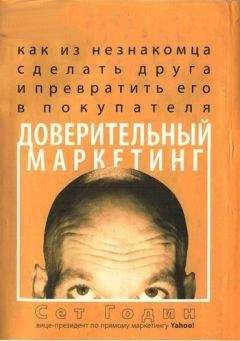Так старый дуб, железно-прочный, неохватный, передает все соки жизни молодому по страшно мощной общей корневой системе, которую он, старый, сам и бился годами под землей развить, умножить, разрастить. И нарастают клейкие зеленые листочки на молодых ветвях вознесшегося кроной к небу нового владыки, а старый царь стоит сухим и голым — столетиями надежно закрывавший молодого от ветров… ты будешь править миром, а он… а он… — Камлаев отстранился и изловчился не подумать «этого».
Наутро отец вышел к завтраку до кости выбритым красавцем-генералом: рубашка — эталон крахмальной белизны, широкий подбородок каменеет неприступно, в лице — одна, пожалуй, только крепкая досада на то, что отдаешь впустую время, уступая начавшейся болезни, в угоду ей и против воли прерывая свою работу; мать за столом усильно щурилась, как будто стала близорукой, как будто позабыла названия самых близких и простых вещей: солонки, «бородинского», ножей, шипящей, пузырящейся глазуньи, оливок, ветчины, часов, схвативших золотой цепочкой запястье… что ей сказал отец? сказал хоть что-то?.. а впрочем, надо ли отцу ей говорить хоть слово? Ведь между ними не бывает тишины — должно было за четверть века возникнуть между ними и возникло что-то такое… ну… как у собак, дельфинов… вот это понимание бессловесное, способность безотказная почуять, когда плохо… она сама смеялась, говорила, что что-то ей такое отец во время операции удалил, так, что остались только безусловные рефлексы: «бегу на свист», угадывала, знала, что через пять минут отец заерзает ключом в замке — когда бы ни пришел, откуда бы ни прилетел средь ночи; «иди встречай отца» — «да где он? где?» — Камлаев в детстве поражался, как может быть такое: отец еще не появился во дворе из-за угла, а мать уже, уже его увидела.
Покончив с чаем, отец не стал сидеть по русскому обычаю (прощаться со стенами, с домом — и правильно… зачем?… ведь не на Северный же полюс, не на каторгу), тяжелая рука его, лежавшая недвижно, ожила, скользнула по столешнице по направлению к узкой, длиннопалой маминой ладони, ее накрыла будто бабочку, смиряя, стеснив биение, и, быстро сжав, не повредив, погрев мгновение, оставив память в пальцах, отпустила — он с ней прощался так всегда и ничего сегодня не добавил к ритуалу.
На Эдисона глянул коротко — с неистребимым крепким и спокойным любованием, с оттенком гордости, неверия в то же время, что вот он, сын… с каким смотрел, когда Камлаев был еще ребенком (со временем ушло из взгляда умиление, осталась только гордость силой своей крови, проводящей вдоль времени родовые черты), поцеловал в макушку Лельку, и что-то дернулось почти неуловимо в его лице, что-то такое проступило… несвойственно плаксивое… усилие подавить рванувшееся хныканье… или Камлаеву все это только померещилось? И, перекинув через руку твидовый пиджак, пошел как в гору с тяжело нагруженным заплечным мешком, целенаправленно, весомо-крепко.
Камлаев глядел ему в спину, не в силах будто вынырнуть из-под запрета двигаться и жить своей отдельной, самостоятельной жизнью: любое, самое простое телодвижение сделалось неправомочным, так, будто, собственное тело, сто девяносто сантиметров и восемьдесят восемь килограммов костей и мускулов, ему, Камлаеву, всецело больше не принадлежало, — вот эти бицепсы и шея шире плеч, вот эти пальцы, сочащиеся музыкальным веществом, которое он должен без остатка скормить крикливой стае деревянных клавиш, вот эти ноги, да, которым не терпелось пуститься в пляс, пройти с мячом по краю, выкрутив защитникам хребты, убрать, подсечь, навесить, ринуться в пустующую зону и, извернувшись так, как будто нет в нем ни единой целой косточки, достать носком ли, пяткой уходящий, подправить, перебросить через вратаря… будто бы мир накрыли крышкой, как кастрюлю, надвинулась и опустилась со скучной неумолимостью безличная тупая нерассуждающая сила и не давала распрямиться, оторваться, запорхать.
Снег повалил в этом году негаданно, до противоестественности рано: начало октября, все еще сочно, зелено, свежо, дороги пышно, словно перед царским поездом, засыпаны цветными и гладкими листьями кленов; еще вчера над головой стояла насыщенная синь без дна, еще вчера по-матерински щедро мир был наполнен солнечным теплом и теплый ветер ударял в лицо, в свободно дышащую грудь под тонкой рубашкой, и вдруг — нахмурилось, нахмарилось, над головой стало скучно и давяще пусто, такая там простерлась на много сотен километров ввысь лишенная всех свойств, пустая глухота.
Безмолвный и обильный снег не падал — стоял отвесно, не колеблясь, пушистой белой шерстяной стеной; бесформенные хлопья, мохнатые назойливые мухи, амебовидные нашлепки на лобовые стекла, на глаза, на лица не приносили ничего — привычного немого восхищения высокой строгостью, холодным совершенством творящейся над миром красоты; торжествовали тишь, белесость, ватность, мгла, бесформенность, сырая духота, так, будто кто-то надевал на человека, на Москву смирительную толстую и мокрую рубашку, так, будто толсто заливал весь город полупрозрачным студнем равнодушия, клоня к земле, ко сну, к повиновению, к беспамятству.
Идешь, коленями, плечами расталкивая этот холодец схватившейся усталостью уже какой-то после-жизни, не в силах совладать с густой тяжелой безвоздушной массой, стоящей выше крыш. Он не бывал в больницах, в них почти что не лежал: ангина, ларингит, бронхит, реакция Манту, прививки от чего-то легендарного, как оспа, как холера, как чума, санбюллетени на покрашенных зеленой масляной краской стенах поликлиники — со злой дворнягой, исходящей заразной слюной бешенства, — вот все, что помнил он из собственного опыта борьбы со смертью в детстве.
Дважды бывал он в институте у отца и никогда нигде с тех пор не видел зрелища страшнее и величественнее: то был определенно город в городе, монументальный, подавляющий своей каменной массой будто священный город древних, который с именем отца спаялся в монолит, как пирамида со своим Хеопсом, — людишки, стадо, паства, придавленные этой монументальной жутью, ползли по направлению к нейрохирургическому храму убогой муравьиной цепочкой или порознь, и ощущалось явственно присутствие невидимой руки, способной отмести, снести ударной волной мановения десяток уповающих на чудо филигранной операции, которую умеют делать во всем мире только двенадцать человек.
Все человеческие виды, касты, расы ломились пассажирами на этот нейрохирургический ковчег: мосластые, сухие партийные сенаторы, что ехали сюда на своих «ЗИМах», «Чайках» как будто к спец-распределителю бессмертия; отрастившие пузо на сидячей работе мужчины с откормленно-самодовольными улыбчивыми мордами и депутатскими значками на лацканах двубортных пиджаков; козлобородые профессора и академики с эйнштейновскими нимбами над гениальной головой; подвижно-настороженные, быстрые, развязно-говорливые работники торговли с раздутыми портфелями и навыком обмена дефицитного товара на дефицитную услугу и обратно (войти и превратиться в трясущуюся тварь, сообразив, что тут не договариваются, на этих весах — не обвешивают), донбасские шахтеры, сургутские буровики, покорно-терпеливые колхозники, узбекские немые старики в расшитых тюбетейках и халатах, старухи-богомолки в платочках, с испитыми лицами, старухи с царской осанкой и в черных кружевах, фронтовики и труженики тыла, едва ползущие или, напротив, молодцевато-бодрые и крепкие; готовые пустить слезу, завыть как бы без чувства, погребально, простые женщины и непростые — фифы, королевы; безусые юнцы и вовсе пионеры, еще в походных, боевых болячках, не сошедших с ободранных колен и расцарапанных локтей; закаменевшие от муки, от вогнанных под сердце убийственных диагнозов полуседые и молоденькие мамы, которые вели за руку беззаботных, не разумеющих беды своих детей, обыкновенно крепких, пухлых и не могущих ни мгновения оставаться неподвижными, — вся эта рать пятнадцати республик стояла караулом у дверей, росла по лестницам и коридорам упрямым, цепким, наглым деревом. И это надо было видеть — что моментально делалось с людьми, каким тишайшим, ниже отцветающей травы, покорнее жухлого листа, благоговением вмиг озарялись изнутри пустые лица при появлении белохалатного отца: ни в ком и никогда не видел Эдисон такого послушания, такой готовности предать себя в чужие руки.
Сейчас он это все — отцовский институт — и вспомнил, когда шагал по направлению к корпусу не менее великого размера; структура здания тут тоже была «войти и заплутать»; Мартышка, в белом застиранном халате, вразлет наброшенном на плечи, ждала его на главной лестнице, курила, раздраженно стряхивая пепел в консервную жестянку на высоком подоконнике, — вся из себя такая деловая, вся воплощение жреческо-врачебной власти, с печатью принадлежности к закрытой высшей касте на лице, ей это шло, уверенная сила исходила от нее, свобода пребывания в естественной стихии.