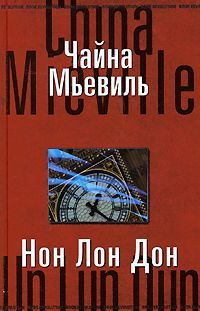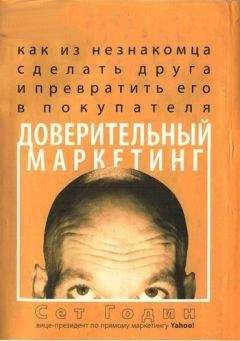— Хватит! — рявкнул отец. — Нахныкаться, навыться мы все еще успеем. Вот так-то, Эдисон, — цели ясны, задачи определены. Что, шаромыжник, мотылек, сумеешь обеспечить матери с сестрой тот уровень, который я им обеспечивал? Придется, брат, учиться отвечать за ближних. А музыку нам дашь такую, чтоб убивала страх, как совершенная любовь… чтоб вырывала жало?.. а то ты больше все скрежещешь против шерсти. А то тут был один из ваших у меня, такой Урусов, не слыхал?.. я не рассказывал тебе… вот странно… так вот, он мне сказал, что музыкантам раньше верили примерно так, как вот сейчас врачам, вот был он нужен, исполнитель, для того же… вроде шамана, да — сделать удачной предстоящую охоту, дать нам такой порядок, чтобы почуяли жизнь вечную… нам этого хватит… что будто мертвые услышали живых… что мы как будто снова обнялись, соединились в обход всего, что знание говорит нам. А, о таком не думал? Вот задачка!
Камлаев этого не мог сейчас услышать; слух был порабощен известием о неостановимо сгорающей отцовской жизни, иллюзий больше не осталось, спасительных, защитных представлений, которые еще мгновение назад свободно и в избытке порождал его рассудок — что это лечится, что это как аппендицит, чуть посложнее, пострашнее… что все-таки иммунотерапия творит порой научно-обоснованное чудо… что вот отца будут лечить подобные ему, такие же великие машины, способные, разрезав и заштопав, втащить обратно в жизнь любого осужденного… Не понимал: как мог он не сократиться, не исчезнуть, как может быть такое, чтоб под ним, Камлаевым, сейчас немедленно не проломилось, как может он, Камлаев, оставаться настолько свободным от «этого», что совершается сейчас с его отцом… как может он дышать по-прежнему, ничуть не убывая, ни грана не теряя личной силы?..
Последнее и окончательное знание вошло в него, медлительно входило, будто поршень, — но его, Камлаева, нисколько не меняло, он оставался совершенно прежним, несокрушимо мощным, ровно дышащим, неодолимой силой отсеченный от отца, бессильный одолеть вот эту грань и погрузиться в отделенную отцовскую реальность. Его с ним не было, Камлаева с отцом. Одно лишь бешеное изумление перед своей безмозглой, безбожной живучестью и было его единственным подлинным по этому поводу чувством.
Почему, почему никто не взбунтуется, не закричит, что так нельзя — как будто так и надо — отдавать своих вот этому членистоногому, — не разметает склянки, капельницы, банки, приспособления для отведения мочи и извлечения дерьма, не поведет орду вот «этих», потрошеных, с дырками, на штурм вот этой крепости бессилия и позора — передушить врачей, загрызть здоровых и живых, достать клюкой, удавкой резиновой кишки всех остающихся еще пожить, улыбчивых и жизнерадостных… чтобы заставить их хоть что-то, хоть сколь-нибудь по-настоящему почуять?.. кто нас всех обучил, когда — не слышать этого, не замечать и радоваться солнцу?.. одна Мартышка только упирается и плачет, но и она на самом деле только «из приличия»… никто не может перейти туда, к больному, никогда.
Как будто кто-то управлял им, вел, когда он не своей силой встал и бесполезно-крепко сжал отцову руку, и пальцы его словно погрузились в воду… тяжелая, как слиток золота, отцовская рука водой потекла сквозь крепко сжатые камлаевские пальцы.
Мартышка что-то говорила неумолчно на обратном пути — что ничего еще не решено, что непременно они испробуют гемцитабин, дорогостоящий, немецкий, запрещенный, прошедший испытания пока что на одних мышах и показавший самые высокие на сегодняшний день результаты, гораздо выше, чем у всех сегодня применяемых агентов, которые что мертвому припарки, — и циспластин, и диксорубицин… есть излечившиеся, есть… добиться можно стойкой ремиссии на год, на целых пять… да нет, послушай ты, есть те, которые вообще перешагнули и двинулись дальше… да, да, 0,00000001 %, но этот каждый тысячный, миллионный… мы над этим работаем, сейчас за год открытий больше, чем раньше за тысячелетие… тут тьма, конечно, обстоятельств должна сойтись, само собой… если б на первой стадии была возможность подключиться, но опоздали, так почти что никогда не получается, она ведь, гадина членистоногая, вползает, вернее, зарождается совсем уж безболезненной сапой и долго, долго, тварь, себя ничем не выдает, ни болью, ни гематурией, и клетки вроде делятся, как прежде, по двадцать три миллиона каждую секунду, под неусыпным ревностным контролем, в определенном органе — в определенное до тысячной секунды время… да, да, такой минималистский, растянутый во времени процесс, который состоит из миллионов повторений… ничтожный сбой — и начинают неуследимо накопляться нарушения в геноме клетки, проходит год, другой, и унитаз в одно из утр окрашивается розовым.
Молекулярные системы регуляции обыкновенно восстанавливают прежнюю, нормальную структуру измененного гена, но в 0,00001 случае из миллиона восстановления не происходит и изменения приводят к необратимой деформации здоровой клетки. Никто не может управлять процессом на стадии инициации, никто не скажет, почему с одними смертными, с их клетками творится неостановимая мутация, а с «большинством», с другими этого не происходит. Если учесть, что каждый ген (любой примерно из пятидесяти тысяч) в процессе жизни клетки подвергается спонтанным нарушениям около миллиона раз, то, несомненно, каждый из живущих имеет неплохие шансы присоединиться к урологической дивизии «самогонщиков» с их переходно-клеточным вареным раком мочевого пузыря и уж тем более высокие — к несмети онкологических иовов с другими формами и областями локализации первичных опухолей.
Неправильным будет считать, что допустимая погрешность в кодировке человеческих геномов — сравнительно недавнее проклятие, которое Господь наслал на род людской взамен чумы и прочих эпидемий, и что всему виной ароматические углеводороды большой химии и прочие побочные продукты человеческой борьбы за каучуковые шины. Мол, сотворили, вши-цари природы, неладное с доверенной вам биосферой, воздвигли, идолопоклонники, сталелитейные и нефтеперегонные соборы самим себе — мерилам всех вещей — так получите, чтоб жизнь медом не казалась. Увы, предположительное описание рака молочной железы можно найти еще у Гиппократа (трактат «О карцинозе», написанный в 400-х годах до н. э.). Придет палеонтологам в башку исследовать останки динозавров — есть вероятность, что и у тирексов посредством современной рентгеновской аппаратуры удастся обнаружить костяное образование одной природы с человеческой саркомой.
Истина в том, что механизм необратимого перерождения клетки вмонтирован неудалимой частицей в программу, прописан вышней волей как самостоятельная партия в великой партитуре для всей прорвы белковых тел — причем играть любому исполнителю дается в любом произвольном порядке, с любым произвольным числом повторений. Истина в том, что Вседержитель был озабочен сотворением человека не сильно в большей степени, чем экстерьером крокодила: на уровне клетки, на уровне глины все твари есть почти одно и то же — кто там ближайший наш в животном царстве, по генетическому шифру, родственник, кто голосит, проткнутый свинорезкой, совершенно человеческим голосом?
Спустя еще две с половиной недели пребывания в больнице отец, не говоря ни слова никому из ближних, вызвал водителя к онкологическому институту и поехал домой — переворачивая все, что было известно дочери, врачам о «типовом», «стандартном» поведении раковых приговоренных: те, кого заподозрили, все те, кого еще, возможно, и отпустят — все, мол, иди, тревога была ложная, нет у тебя на самом деле ничего, — начинают истерику, бьются в падучей — «Не хочу! Не меня!», наливаются злобой на живых и здоровых и слезливой душащей жалостью — к самим себе, пропащим, обреченным, и бросаются зверем на ближних, на жену, на детей — «подыхаю я, кончусь в мучениях, слышите? А ну-ка всем проникнуться и лично, вне моей горести, не сметь существовать! Всем причитать и плакать, ну, почему я ухожу так рано… что, не хотите, суки? Прячете глаза? Забыли? Так я напомню вам: я ухожу — вы остаетесь дышать вот этим воздухом живым, пьянеть от солнца, от колодезной воды, от запахов сирени, вы остаетесь, а я кончусь… Я! Вы это понимаете?»
Потом, когда уже приговорят, поставят точки над несмываемой куриной пачкотней в больничной карте, тогда уже личность больного либо рыхлеет, истончается от вымывания водой покорности и равнодушия, либо живет уже до самого конца неистовой верой в исцеление, цепляется неразжимаемой хваткой за все подряд: за золотые, высшей пробы, хирургические руки, за чудотворную икону, сочащуюся миррой, за ледяную иордань, за склянку с семенем марала… все шарит, шарит скрюченными пальцами во мраке, пока от самой телесности не остается ничего.