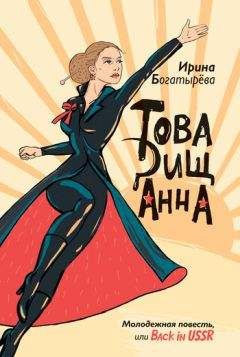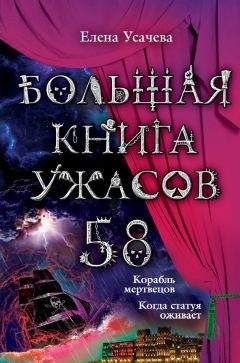Наверное, это было самое нелепое воровство. Украли модель Солнечной системы, которую Дрон собрал, будучи еще школьником, из шариков от пин-понга, проволоки, лампочки и батареек. Ничего ценного в этой хлипкой конструкции, где Юпитер иногда сталкивался со спутниковым поясом Сатурна, а Луна была из комочка фольги и закреплялась на тонкой проволочке, – ничего ценного в этой модели не было. Дрону передали ее из дома после того, как в их комнате была реанимирована любовь к астрономии. Модель к тому моменту не работала долгие годы, но Андрей перебрал ее, настроил, вставил свежие батарейки и гордо демонстрировал свое чудо на кухне. Солнце было из маленькой радиолампы. Под нашими восхищенными взглядами, как в чудесном фонаре, на Земле, пришедшей в движение, день переползал с одного полушария на другое, год накручивался за годом, и то же самое, как оказалось, происходит на других планетах, однотонных, в отличие от сине-зеленой, крашеной Земли. Мы завороженно следили за шариками, но больше всех млела Марина, она выглядывала из-под руки Дрона, гордая, как будто была возлюбленной Зевса.
И вот игрушки не стало. Андрей был удручен.
– Я понял, – говорил он потерянно. – Это маньяк такой. Он тырит все, что связано с электричеством. Но зачем ему моя система? Там ценного – только свежие батарейки!
Однако еще более подавленной выглядела Марина. Вся ее энергия, весь ее безудержный оптимизм улетучились, что-то в ней пошатнулось, она ходила с недоумением в глазах и чувствовала себя виноватой.
– Хочешь, я работу брошу? – говорила она Дрону плаксивым голосом. – Буду сидеть дома и сторожить.
– Не страдай ерундой, – раздражался Андрей. Он, как все мы, менял замок, расширяя паз в двери молотком и зубилом, оно сорвалось и оцарапало палец. – Развалюху эту все равно уже не вернуть, а больше тут тянуть нечего, – говорил он полнорото, обсасывая палец. – Ты ведь, Валек, не хранишь под кроватью золото-брильянты?
Валька не отозвался. Странная, чуждая мысль шевелилась на дне его сонных, ртутных глаз. Он сам еще не до конца осознал ее, не до конца обдумал, а она уже становилась импульсом к действию, уже свербела, не давала покоя, и Валька чувствовал, что неизбежно повинуется ей.
Она зародилась от всего, что происходило в общаге, от рассуждений Дрона о несправедливости, но главное – от давящего в последнее время чувства, что ему нужны деньги для Анны, что он-де выбивается из сил, пашет как вол, а денег по-прежнему нет. Ладно бы для себя, но ведь для Анны! Эта потребность казалась ему благородней, тем более что был декабрь, приближался Новый год, и Валька ощущал катастрофически, что денег на подарок, достойный его Анны, нет и неизвестно, откуда их взять.
В то же время деньги были кругом, их было видно невооруженным глазом. Стылая, гриппозная, бесснежная Москва, как полоумная старуха-миллионерша, блестела огнями, игрушками-гигантами на искусственных елках, помпезными, как кремлевские залы, витринами магазинов в нижних этажах зданий в центре города. Теперь Валька после универа не спешил в свою пекарню, а бродил в ранних сумерках среди возбужденной предпраздничной шопинговой суетой толпы, глазел на витрины и ощущал себя стоящим если не на самой обочине жизни, то где-то в крайнем правом ряду, в длинной, бесконечной пробке, тогда как слева несутся на бешеной скорости, поблескивая маячками, дорогие автомобили. Деньги в Москве были везде, они лежали рядом, стоило только протянуть руку, они давались людям без труда, но не давались Вальке, сколько бы он ни работал.
Это чувство измучило его. От разговоров о краже оно нахлынуло снова, и, повинуясь, Валька поднялся, стал обуваться, натянул куртку.
– Ты куда? – вскинул брови Дрон, сторонясь в дверях. Валька не ответил. – В кои-то веки домой не ночью вернулся и опять убегаешь, – обиженно, как родитель, проворчал он.
– Ключи! Ключи пусть новые возьмет! – встрепенулась Марина.
– Эй! – крикнул Дрон и метнул в Вальку ключ. Тот успел обернуться и поймать его одной рукой, несмотря на всю свою озабоченность.
Он вышел на улицу и отправился куда-то не глядя, аршинными шагами, нахохлившись, засунув руки в карманы. Светили фонари, на асфальте намерзла тонкая наледь и блестела, как лакированная. Искушение душило Вальку, и он шел так, будто пытался от него убежать. В голове кипело и клокотало, как в котле: обрывки пламенных речей ребят из Анниного подвальчика, слова Дрона о несправедливости, перед глазами стояло нежное исступленное лицо Анны, а в ушах вместо привычных, расслабляющих песен русского рока громыхало, как горный обвал: «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил, черные дни миновали, час искупленья пробил». В записи, которую ставила Анна, хор пел на фоне медного духового оркестра, и одна какая-то труба выбивалась в проигрыше громче, усердней всех. Так и представлялся красный, раздувающий щеки и ноздри, с невидящими от напряжения глазами немолодой трубач, который чуть ли не привстает на месте, выводя свое незамысловатое «ту-ду-ту-тум».
Мысль, наткнувшись на Анну, развернула Вальку и погнала в обратную сторону. Подходя к общежитию, он еще не думал, что сдается, но, достигнув подъезда, ощутил вдруг, как все в нем подобралось, словно вселился безжалостный дух. Собственной воли не стало, он превратился в исполнителя, в механизм и, казалось даже, мог наблюдать за своими действиями со стороны. Осторожной, звериной походкой, другим человеком, нежели выскочил полчаса назад, поднялся он на крыльцо и вошел в подъезд нашего общежития.
На вахте как раз сменялись охранники. Дверь будки была открыта, и один еще не вошел, задержавшись в проеме, а другой не вышел – сидел и что-то объяснял, показывая разложенные перед стеклом пропуска и ключи. Громко работал телевизор перед ним, но еще громче смеялись незнакомые Вальке студенты. Они столпились возле столика с письмами, усадили на него длинноногую густогривую мулатку с Кубы и учили ее русскому языку. «Скажи: как пройти к библиотеке имени Ленина?» – напрягали они пьяные глотки, и мулатка, мелодично картавя, пропевала слова, коверкая их и в хвост и в гриву: «Как пройты к бильбильетьеке имьени Льенина». Хотя, Валька знал, была она русисткой и переводила Платонова на испанский язык. Публика жизнерадостно балдела. На Вальку никто не обернулся, когда он махнул перед вахтерами пропуском и скользнул за турникет.
В лифте он нажал на кнопку «11», но не по привычке. Сейчас в нем все было осознанно, как никогда, каждое движение было верно, в каждом шаге он отдавал себе отчет. Выйдя на нашем этаже, он размеренно, не торопясь дошел до середины коридора, но никто не выглянул в этот момент из-за двери, не прошел на кухню или в душ. Тогда Валька развернулся и так, будто только сейчас уходил – в круглосуточный киоск, за хлебом, – дошел до лестницы и стал спускаться вниз.
Ему никто не встретился. Никто не курил перед окнами, не пел под гитару, прижавшись спиной к ребрам батареи, не целовался в слепой гулкой темноте пролетов. Общага жила близкой сессией, совсем другие заботы занимали людей. Непривычная тишина стояла везде. Спустившись на третий этаж, он снял куртку, положил ее на перила и вошел в гостиницу.
Этот этаж всегда отличался от других тишиной. Пол здесь был устлан мягкими половиками, скрадывающими шаги. Из-за стен, усиленных гипсокартоном, не долетали звуки. В тупике, в комнате горничной, журчал телевизор. Если днем обычно она сидела посреди коридора и собирала ключи, то сейчас – Валька был уверен – она не высунется без зова.
Сутулясь, глядя в пол и качаясь, как пьяный, он пошел медленно по коридору, вслушиваясь в звуки из-за дверей. Перед Новым годом почти все номера были заняты. Жизнь нерешительно пробивалась из-за них – звуками телевизоров, воды, запахами еды и парфюмерии. На весь коридор пялилась единственная видеокамера. Ее черная тупорылая морда была нацелена на лифт и выход на лестницу и по касательной выхватывала несколько дверей в ближайшем расположении. На большее гостиница не расщедрилась. Валька шел в конец коридора, каждым движением изображая, что сам не знает, как оказался здесь и что делает, а перед глазами видел самого себя, свою спину в футболке на черно-белом мониторе перед дремлющим вахтером. Когда он подменял их на первом курсе, он нагляделся на эти одинаковые спины.
Голова работала непривычно ясно, он не рассуждал, но действовал, как жадный уверенный хищник. Дойдя до конца, он развернулся и пошел обратно. Монитор должен был отметить, что Валька покинул это пространство. Держась за стену, он дождался лифта, поднялся на шестой этаж, снова вернулся на лестницу и бегом спустился обратно.
Возле собственной куртки он остановился, переводя дыхание и прислушиваясь. Ничего не менялось. Казалось, во всем здании он был один. Тогда Валька вывернул пуховик и надел его черной подкладкой наружу. Натянул капюшон. Втянул руки, чтобы не было видно ладоней. Досчитал до тридцати, одним махом вошел в коридор и тут же сделал шаг к ближайшей от камеры двери в номер. Он припоминал, что на мониторе эту дверь не видно.