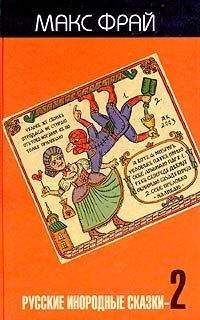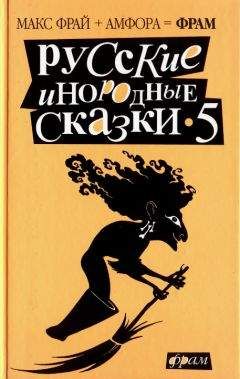И стал собираться. Тётка Дарья — будто и не заметив этой вспышки уязвлённого самолюбия — с тем же видом угрюмого превосходства следила за его действиями.
— Ты куда? — осведомилась она, когда супруг, затянув ремешок на мешковатых брюках, полез на печку за сапогами.
— К Кузьмичёву, — буркнул Петрович, обуваясь, — куда ж ещё?
Дарья покивала, соглашаясь, потом вдруг нырнула под матрац, пошебуршилась там и вынырнула, зажав в кулаке синюю бумажку.
— Деньги возьми, — сказала она, с неохотой передавая её супругу.
— Трёшку бы добавила? — жалобно протянул тот. — Хотя бы чекушечку возьму — неудобно с пустыми-то руками идти.
— Иди-иди, — огрызнулась Дарья, — Кузьмичёв и день и ночь гонит — угостит, чай, по такому случаю.
Петрович, неразборчиво ворча, ушёл, а Тётка Дарья взялась за самовар и, впервые за утро, улыбнулась. Всё выходило не так уж плохо, скорее наоборот, и с этого «наоборот» Берёзкины капризы были объяснимы.
Кузьмичёв был единственный на всю округу держатель быка-производителя. Бык у него был справный, такса — двадцать пять рублей — вполне приемлемая, а потому ничего удивительного не было в том, что почти все коровы в округе были одной, кузьмичёвской породы.
Сговорились быстро, без закуски. Счастливо пошатываясь, Петрович вернулся домой, призвал на подмогу жену, и вскоре — не прошло и часа — опутанную верёвками Берёзку повели на кузьмичёвское подворье.
7.
Итак, куда-то повели. Слева Петрович, успевший с утра наклюкаться, справа тётка Дарья с неизменно поджатыми губами. Держатся за верёвки — боятся, что убегу.
Впервые иду по улице в коровьем обличьи. Хорошего мало: конвой, вымя болтается, да ещё шавки уличные всё норовят куснуть за лытку.
Одна всё-таки цапнула. Хоть и коровья нога, а больно. Резко остановившись, так что хозяева мои, продолжая по инерции идти, едва не столкнулись лбами, я поднял укушенную ногу, прицелился и хорошенько врезал копытом по не успевшей отскочить моське. Визгу…
В другой раз Дарья и Петрович сами остановились возле уличной колонки. Там собралась толпа соседей, увлечённо обсуждая последнюю новость: "У Ивановых, слышь, Васька умом тронулся: с постели не встаёт, говорит только «гы», вдобавок сожрал одеяло и кровать обосрал!" Я хмыкнул: с одной стороны приятно было узнать, что тело моё в целости, а с другой… В общем, о такой славе я не мечтал. Хорошо хоть «скорую» вызвали. Может, разберутся врачи, что произошло, в честь чего мы с Берёзкой местами поменялись. И хотя я не очень-то верил во врачебную помощь, но при этом — странное дело — стал гораздо спокойнее по сравнению с той минутой, когда обнаружил себя в хлеву. Казалось, вот-вот эта дурацкая шутка с обменом тел завершится, и всё станет как прежде.
Но пока ещё продолжались мои коровьи будни, вернее, коровий праздничек, как я понял, когда меня стали толкать в кузьмичёвские ворота. Я упирался: увидев Кузьмичёва, я мгновенно догадался — чай не маленький — что вообразили Дарья и Петрович по моему эксцентричному поведению и что сейчас со мною будет.
Ну почему я не превратился хотя бы в быка или, ещё лучше, в кота "который гуляет сам по себе" и до которого никому кроме собак нет дела? Проклятье! Я упёрся изо всех сил, но на подмогу к моим хозяевам подоспел десятипудовый Кузьмичёв и я пулей проскользнул в ворота.
— Справится ли с ней твой бык? — спросила Дарья, с опаской следя за моими прыжками в загоне.
— Не бойсь, — успокоил её Кузьмичёв, — Велиалу не впервой — так покроет, что будь здоров!
Кузьмичёв захохотал. Смех у него был гаденький, похожий на жабье кваканье. Поговаривали, что он иной раз подменяет Велиала, и хотя сплетни подобного рода мне противны, глядя на Кузьмичёва трудно было не поверить даже в самую грязную из сплетен.
Пока я прыгал по узкому загону, прикидывая как отсюда выбраться, — вывели быка.
Велиала я видел и раньше. Кузьмичёв, правда, из понятных соображений не гонял его на пастбище вместе со стадом, но однажды, когда моим родителям было недосуг, я приводил к нему нашу корову Милку. "Хороша, хороша!", приговаривал Кузьмичёв, похлопывая Милку по гладкому крупу, и пускал слюни на пару с Велиалом, который рыл землю за изгородью соседнего загона. По здешним меркам это был очень крупный бык (весом более двадцати пудов), чёрной масти, с латунным кольцом, пропущенным сквозь ноздри. Кольцо, правда, было прицеплено из чисто декоративных соображений, поскольку к цепи Велиала пристёгивали за ошейник.
— Красавец! — в голос воскликнули Дарья и Петрович, когда дрожащий от нетерпения бык ворвался в мой загон.
Я ощетинился рогами, приготовясь стоять насмерть. В сравнении со мной Велиал казался великаном, так что смерть была не за горами.
Увы, или скорее к счастью, я стал коровой не до конца. Коровьего языка, если таковой имеется, я не понимал. Но, должно быть, дело было не только в языке, а в чём-то ещё — невидимом глазу, однако доступном бычьим чувствам. Это невидимое нечто, похоже, не укладывалось в велиалово представление о коровах. Когда я, собравшись для прыжка, готовился нанести удар, который, как я надеялся, выключил бы быка, тот вдруг тревожно мыкнул и стал отступать к изгороди, косясь на меня чёрным в красном ободке глазом. Пятясь, Велиал проломил изгородь и оказался в своём загоне. Не задерживаясь там, он прошмыгнул в незапертую калитку и скрылся в хлеву.
Кузьмичёв бешено матерился ему вслед. Дарья тихо охала. Петрович, на пьяненькой физиономии которого застыла неуверенная улыбка, чесал затылок. Я расслабился, сплясал над воображаемым трупом быка, с шиком задрал хвост и оросил изрытую в многочисленных брачных танцах землю загона.
Кузьмичёв, пытаясь спасти гонорар, попытался уговорить моих хозяев дать Велиалу ещё один шанс. Впустую. Тётка Дарья, бросив строгий взгляд на супруга, подтолкнула меня к выходу и я — легко и радостно — выбежал на улицу, по пути мстительно обронив несколько лепёшек на скоблёный деревянный пол кузьмичёвского двора.
Дарья едва поспевала за мной, вторая верёвка волочилась по земле — Петрович безнадёжно отстал. Я мог с лёгкостью вырваться, но Дарья вдруг объявила, что мы идем к ветеринару, благо ветлечебница рядом. Я был всей душою — «за», поэтому напустил на себя смиренный вид и позволил Петровичу подобрать верёвку.
8.
Васин отец был лет на десять младше Петровича, но выглядел, пожалуй, старше. Плешь, жиденьким ручейком бегущая через темя, широкой лужей растекалась на затылке. Лицо сморщенное под глазами круги, тело маленькое, высохшее, Петрович, череп которого хоть и был гол, выглядел крепким, здоровым и полным сил. К тому же он был пьян, и это последнее обстоятельство делало бедного циррозника особенно несчастным. В былые времена они пили вместе и, можно сказать, — не смотря на то, что Петрович всякий раз старался напиться не за свой счёт, — были друзьями.
— Выпей, Семёныч, — уговаривал Петрович, наполняя свой стакан. Он зашёл к соседу поделиться горем, послушать о его горе и на этой печальной сближающей волне уговорить друга принять половинное (в том числе и финансовое участие в выпивке).
Семёныч нехотя боролся с жаждой.
— Врачи говорят — нельзя, — в сотый раз повторил он, с тоской наблюдая за уменьшением уровня жидкости в бутылке.
— Врачи? — неодобрительно покачал головой Петрович, смачно хрустя солёным огурцом. — А чего на счёт сына твоего говорят?
— Да ничего толкового. Увезли в город, сделали анализы и вернули назад. Пусть, говорят, под вашим наблюдением побудет — ни одна санитарка не желает за ним ходить. — Семёныч шмыгнул, пустил слезу и потянулся за бутылкой. — А-а, в бога-душу-мать — один хрен помрём!
Петрович бодро закивал в поддержку столь мужественного решения.
— Моей корове вчера тоже анализ сделали — Иван Иваныч, ветеринар, глистов подозревал. Нынче пришёл и говорит, что нет, мол, глистов, здорова твоя Берёзка. Я ему: как здорова, мать-перемать, коли ведёт себя как больная?! А он: науке такие болезни неизвестны, а ежели желаешь, зарежь её на хрен, пока никто не прознал — я, мол, справку выдам. Дарья ему на это чуть глаза не выцарапала, а всё же согласилась. Я с дедом Евлампием на послезавтра договорился. Ты, Семёныч, тоже приходи помогать, отметим, свежатинкой угостишься…
Вскоре, забрав с собой пустую бутылку (зачем добру пропадать?), Петрович ушёл к себе. До дому, правда, не добрался — упал с крыльца. Семёныч отключился прямо за столом. Через час их обоих увезла «скорая».
9.
После визита к ветеринару меня снова посадили на цепь и больше уже не выводили. Две ночи пробежали в кошмарных снах о клевере и люцерне. Ещё одна ночь, и я взаправду затосковал бы о пастбище.
Мною завладело странное тупое спокойствие — я, конечно, чувствовал себя несчастным, но ничего не делал, для того чтобы изменить своё положение. Не делал, не хотел делать, да и не смог бы ничего сделать. Нужно было ждать. Чего?