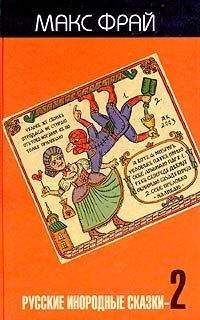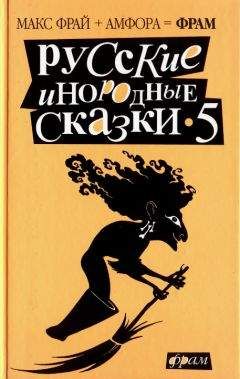Наступил очередной (третий или четвёртый?) день моей жизни в коровьей шкуре.
Тётка Дарья как обычно сменила мою подстилку и облегчила моё вымя. С позорной процедурой дойки я смирился уже на второй день своего пребывания в коровнике: накануне меня не выдоили и к утру вымя разбухло настолько, что молоко само сочилось из всех сосков, а боль была столь не выносимой, что задолго до рассвета стены коровника ходуном ходили от моего безумного рёва; в конце концов, я решил, что две "массажные пятиминутки" в день не такая уж большая плата за то, чтобы в остальное время даже не вспоминать о существовании вымени. Вот и сегодня я благополучно забыл о нём, едва хозяйка унесла подойник.
Ожидая, пока она вернётся с пойлом, я пошарил в яслях, подбирая остатки сена — корова я там или нет, а кушать-то хочется… Сена почти не осталось — так, труха одна — и я даже с удовольствием думал о том, как минут через пять наверну славное ведёрко картошечки.
Но прошёл час, другой, а Дарья всё не появлялась. Забыла она, что ли? Или упала где-нибудь по дороге? Я уж собрался было завопить поистошней, точно заправская голодная корова, каковой я, собственно, и являлся в настоящий момент — да спохватился.
Что-то здесь было не так.
Вот уже два дня я не пугал хозяев дикими воплями, ел, что дают, позволял себя доить, — словом, поведение моё было образцовым, чего нельзя сказать о поведении Дарьи и Петровича. Последний себя вообще никак не вёл — попросту не появлялся в поле моего зрения. Дарью можно понять — переволновалась тётка из-за моих капризов; но зачем скармливать мне драгоценное сено, когда на пастбище полным-полно дармовой травы? Наконец, сегодняшняя «забывчивость» — вовсе без еды оставили. Случай невозможный даже для дурной хозяйки, а Дарью при всём желании такой не назовёшь. Всему этому может быть только одно объяснение…
Неужто зарежут?! Да ведь я… тьфу!.. то есть Берёзка — первая корова на всю округу, чуть ли не рекордистка! Нет же: быть того не может, чтобы зарезать решились — для них это громадный убыток. Что же тогда?..
Думать стало невмоготу. От голода, от страха ли, но голова отказывалась повиноваться. Задрав морду к низкому потолку, я замычал, что было мочи и…
… И, как бы в ответ на мой призыв, дверь коровника медленно отворилась.
Ноги мои затряслись, а в брюхе что-то закрутилось со страшной силой — на пороге, тараща маленькие свинячьи глазки и теребя лопатообразную бороду, стоял мясник дед Евлампий! По лошадиному всхрапнув, я повалился на свеженькую лепёшку.
— Ишь ты, — заметил старик польщённо, — животная неразумная, а понимает!
— Да… уж…, - выдохнул Петрович, заглядывая в хлев из-за плеча мясника.
— Зачнём, пожалуй, — сказал дед Евлампий так кротко и буднично, что я забился в судорогах.
— Зачнём, — эхом отозвался Петрович.
Мясник, отделившись от дверного проёма, шагнул ко мне, и я увидел, что мой незадачливый хозяин опирается на костыли и держит на весу правую ногу, чуть ли не до пупа упакованную в гипс.
В другой ситуации я, возможно, позлорадствовал бы по этому поводу, но в настоящий момент остатки моего обморочного сознания сосредоточились на мяснике и его ноже, коварно выглядывающем из-за кирзового голенища.
Старик приблизился и потянулся к моей морде узловатой, обтянутой пигментной кожей, но широкой и крепкой ладонью. Тело моё била крупная дрожь, глаза же будто в гипнотическом трансе следили за движением этой руки. Рука убийцы тянулась так медленно, что я почти уснул, но когда полусогнутые пальцы с окаменелыми жёлтыми ногтями упёрлись в мой лоб и заскребли по маленькой белой звёздочке в его центре, я дёрнулся как от удара.
Оцепенение спало. Захотелось убежать, однако ноги не слушались, от дрожи уже звенел колокольчик, и я чувствовал, как шкуру пропитывает пот.
— Хорошая корова, — донеслось до меня словно из потустороннего мира.
Старик шёл к выходу. На пороге он обернулся и повторил: — Хорошая корова. Не бойся.
В его голосе не было фальши. Этот старик любил своё дело. Прежде я не раз видел его за работой; он изгонял жизнь из скотины, будь то корова или свинья, одним точным ударом ножа — вряд ли животное успевало почувствовать боль. Ничего не почувствую и я — бояться нечего, хорошая корова.
— Слышь, дед, ты бы не пугал её, — заканючил вдруг Петрович. — Покури пока. Дарья сейчас её успокоит, а потом сама выведет и привяжет. Вишь, как боится она тебя — не дай бог мясо горчить станет…
— Не учи отца бодаться, — отмахнулся дед и неспешно вышел.
Я начал было лихорадочно соображать, как половчее боднуть тётку Дарью, когда она поведёт меня на убой, и сбежать, как вдруг мясник ворвался в хлев с мотком верёвки. Не успел я и глазом моргнуть, как ноги мои были уже накрепко связаны, а старик повис у меня на холке и мёртвой хваткой вцепился в рога.
— Цыц! — прикрикнул он, видя, что Петрович открыл было рот, — я в этих делах толк знаю: бес в скотину вселился! Не свяжи я её, наделала б она делов твоей Дарье.
Петрович застыл с открытым ртом.
— Ну, чё встал-то, будто баран вожделющий? Ты мне — с костяной ногой своей — не помощник. Дарью зови.
Костыли Петровича устучали прочь. Через несколько секунд тётка Дарья щёлкнула карабином моего ошейника и цепь, с дробным стуком ударясь о стену, закачалась свободно на вбитой в бревно скобе.
— Пойдём, милая, на улочку, — с лицемерной, и вместе с тем неподдельной нежностью засюсюкала моя мрачная хозяйка, — пойдём, Берёзонька, погуляем, травку пощиплем…
И так далее в том же духе, а сама настойчиво тянет за ошейник, будто не замечая, что ноги у меня связаны.
— Стой, полоумная! — мясник оттолкнул тётку, шлёпнув по толстому заду. — Вот глупая баба: прямо здесь, что ли, придушить хочешь животину? Кто её потом вытаскивать станет?
Он распутал мои передние ноги, затем взялся одной рукой за ошейник, другой — за рог.
— Давай, Дарья! Не стой столбом — берись также с другого боку.
"Глупые люди! — подумал я не без высокомерия, не очень то уместного в том, для кого настал смертный час. — Достаточно сунуть мне в ноздри пальцы — и я паинька. Но вам ни в жизнь не додуматься до такого пустяка! Теперь либо развязывайте полностью, и тогда я сбегу, либо волоките — два каких-то там упирающихся центнера!"
В общем, то была моя последняя попытка расхрабриться.
Дед Евлампий оказался изобретательней, чем я думал. Поначалу они тянули, а я упирался: спасибо за свободные ноги. Ошейник врезался мне в горло, дышать стало нечем, но сдаваться я не собирался. Сдался мясник.
— Ну-ко, Дарья, — прохрипел он, задыхаясь, — я сейчас отпущу её, а ты не отпускай, крепче держи, да смотри не упади — ты её направлять станешь, а я сзади пойду, буду вилами под хвост колоть.
Что может окончательно отравить последние минуты жизни? Вилы в заднице.
Едва мясник перестал за меня держаться, я рванул к выходу, надеясь застать врасплох тётку Дарью. Но та не оплошала. Вместо того чтобы испуганно ойкнуть и выпустить из рук рог и ошейник, тётка повисла на мне словно злобная моська, а когда, выбежав во двор, я запрыгал было в сторону улицы, она изо всех сил дёрнула на себя мою голову так, что меня развернуло, и, повинуясь закону инерции, я вбежал на задний двор.
Там меня дожидались: скоба, к которой меня привяжут, перекладина, на которую подвесят для разделки мою тушу, не-сколько ножей, таз для головы, таз для крови, таз для сбоя, корыто для кишков, а также несколько чистых тряпок и большой бак с горячей водой — куда ж без гигиены! Посреди этого хирургического великолепия покачивался на костылях хмельной Петрович.
Я появился неожиданно — Петрович не успел переместиться в безопасное, то бишь недосягаемое для меня место. Вытаращив округлившиеся в панике глаза, он попятился, споткнулся и упал мне под ноги. Падая, он неловко взмахнул костылями и один из них огрел меня по морде. Я притормозил, запнулся за Петровича и повалился на него. Кучу-малу завершила Дарья, рухнув животом на мои рога.
Все мы взвыли: мои хозяева от боли, я от ярости. Несколько секунд, однако ж, никто из нас не делал попыток подняться, благодаря чему подоспевший мясник без помех привязал меня к скобе.
И я смирился. Можно было, конечно, попытаться вырваться, но верёвка была крепкая, и всё, чего я смог бы добиться, это истоптать Петровича. Вот только зачем?
Я смиренно ждал, пока Дарья с меня слезет, ждал, пока они с дедом Евлампием извлекут из-под меня полумёртвого от страха и боли Петровича, ждал, пока мясник достанет из-за голенищ нож, потом, задрав морду, посмотрел на сочно-голубое безоблачное небо, закрыл глаза и стал ждать конца.
10.
Я падал. Или летел. Мимо меня проносились чёрные, заросшие слизью бревенчатые стены колодца. Воздух свистел в моих ушах и никак не мог проникнуть в лёгкие: я всё силился вдохнуть, но из горла, мешая вдоху, рвался наружу немой крик… Чёрные брёвна всё мелькали, воздух свистел, и мне так нужно было вдохнуть!