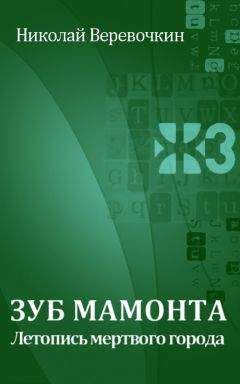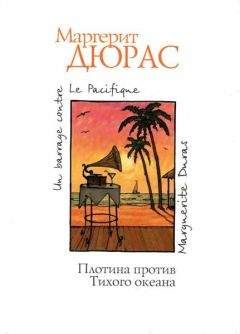Звонок.
— У вас мои приблуды?
Соседка. Но не растрепанная, как всегда. Волосы уложены, губы подкрашены, клипсы, бусы, декольте. Роскошная, оказывается, женщина.
— А ну, марш домой! Нашли ровню. Замучили они вас? — И Черчиллю: — Хороший песик, славный песик!
— Они мне не мешают.
Ярыгин с сестренкой молча подчинились. Проходя под рукой матери, инстинктивно пригнули головы в ожидании подзатыльника. Медвежата и медведица.
— Растут без отца — вот и липнут к хорошему человеку, — говорит она, — вы уж извините.
— Да не за что.
Но она не уходит.
— Я смотрю — порядок-то у вас холостяцкий. Давайте я вам хоть комнаты приберу.
— Спасибо, не надо, — испугался Козлов.
Но женщина решительно двинулась в ванную.
— Да у вас и тряпки нет, — растерялась она, — погодите, я за своей сбегаю.
Вернулась она быстро и с ходу, в праздничном наряде, преодолев отчаянное сопротивление Козлова, ринулась наводить чистоту.
Опешивший от такого напора Козлов стоял в коридоре, прислонившись плечом к стене, и смотрел, как она яростно мыла пол. И чем дольше смотрел, тем больше она ему нравилась. Журчала выжимаемая вода, сочно и влажно шлепалась о пол тряпка, раскачивались обтянутые тонкой материей тяжелые бедра, сверкали клипсы, позвякивали бусы, волнующе пахло домашней женщиной. Звонко тявкал удивленный не меньше Козлова странным занятием соседки Черчилль. Она оглянулась через плечо, и Козлов не успел отвести взгляд. И в эту опасную, откровенную секунду он физически почувствовал, как ему не хватает женского тепла. Даже колени дрогнули. Женщина мыла пол у самых дверей, и теплая волна от ее разгоряченного работой тела окатила Козлова, словно пар из каменки. Он отступил, пропуская ее в спальню, но коридор был тесен, и, проходя мимо с ведром, она коснулась его.
— Вы не стесняйтесь, — сказала она, с томной жалостью окинув взглядом его убогую, плохо застеленную кровать. — Если надо белье постирать, мне это нетрудно.
— Да что вы! Зачем? — в ужасе запротестовал он, смутившись. — Пойду чай поставлю. Хотите чаю?
С этого вечера она приходила к нему часто. После двенадцати, дождавшись, когда уснут дети, в халате и комнатных тапочках. Тихой мышкой скреблась в дверь, опасаясь звонком разбудить любопытство соседей по площадке.
«А что, — думал Козлов, — почему бы и не жениться? Усыновлю Ярыгина, Индирку, Рыжего. Пусть будут Козловыми. Какая разница? В моем возрасте о таких принцессах, как Лариса Васильевна, уже не мечтают. Все мои принцессы скоро бабушками станут. Баба она теплая, славная. Жизнь ее, конечно, поломала. А кого она не ломала? Вся вина, что жила нараспашку. Женюсь. Вот станет Ярыгин отличником — и женюсь».
Отличником Ярыгин не стал. Страстно мечтая о подводном ружье, он старался изо всех силенок. Но силенок было маловато.
— Ну, тройка тройке рознь, — утешил его Козлов. — Тройки-то твердые?
— Твердые, — с робкой надеждой заверил его Ярыгин.
И стал счастливым обладателем подводного пневматического ружья.
Всю жизнь Козлов клял себя за этот подарок.
Ярыгин утонул, заряжая в воде ружье. Не хватило силенок дожать гарпун до упора, и сорвавшаяся стрела пробила ему легкое.
Охотился он в Щучьей заводи, густо заросшей камышом, у острова за вторым бродом. Крик его услышал моторист насосной станции. Но отыскать мальчишку среди лабиринта протоков было непросто. Обнаружили по струйке крови. Слишком поздно.
Козлов замкнулся. Жил, как речная ракушка, плотно сомкнувшая створки. Порвал отношения с матерью Ярыгина. Индирка иногда заходила к нему. Но нос он ей уже не вытирал и сказки не рассказывал. Вспоминая маленького заморыша, которому он хотел стать отцом, скрипел зубами. Жизнь для него кончилась. Кто-то сжигает за собой мосты. Он сжег рукопись об утонувшей деревне.
С этих пор и стал донимать его по ночам лохматый. Особенно часто после того, как сдох Черчилль. Случилось это в год, когда развалилась большая страна. Событие это из своей глуши Козлов воспринял как еще одну, всеобщую измену, окончательно перечеркнувшую его жизнь. Он не верил холеным людям больших городов, сжигающим свои партбилеты перед телекамерами. Они говорили о свободе, но уже требовали, чтобы их называли господами.
Сначала Козлов не обращал внимания на мамонта. Снится и снится. Мало ли что кому снится. Но затем стал замечать тревожные совпадения: стоило ему увидеть ночью зверя, непременно умирал кто-нибудь из знакомых. От мрачного вестника иного мира не спасала и бессонница. Козлов постоянно жил в предчувствии беды. Это делало его похожим на нервного обитателя сейсмической зоны, то и дело в испуге обращающего свой взор на люстру, чтобы найти подтверждение внутренним страхам. Вымершее животное, кости которого когда-то Козлов раздробил ковшом экскаватора, неутомимо преследовало его в сумеречных закоулках родного захолустья.
«Нет, мамонты мне не являются, — с достоинством отмел Грач подозрения, когда Козлов поделился с ним бедой. — Бывает, с чертиками поругаешься — это да. А до мамонтов я никогда не допивался. Видно, здорово ты кого-то обидел».
«Мамонта и обидел».
«Ну, это не страшно. Мамонты давно вымерли».
«По-настоящему никто не живет, и никто не умирает».
«Это точно», — согласился Грач, ничего не поняв.
Козлов стоял уже на нейтральной полосе у границы сумасшествия, когда однажды понял, зачем по ночам приходит к нему мамонт. Так он стал могильщиком.
На кладбище у Козлова было больше близких людей, чем в мертвом городе. После Ярыгина он обошел их всех, задержавшись у пирамидки, сваренной из листового железа.
— Друг, — хмуро объяснил, вернувшись. — Как у себя над могилой постоял. Мы с ним в стройотряде любили раствор замешивать. Самое интеллектуальное занятие. Замешиваешь, а сам о чем-нибудь высоком думаешь. Завезли ли, допустим, портвейн в сельпо, и какого номера. Камни далеко не разбрасывай. Все равно назад возвращать. Человека хоронить — все равно что дерево сажать.
— Ну, ты сравнил, — не поверил Руслан. — Что из ЭТОГО вырастет?
— Из тела душа прорастает. А ты скинь, скинь тулупчик. Запаришься.
Минут через десять, хорошенько продрогнув, он сказал:
— Ну, хватит, покури. Дай мне погреться. Тулупчик, тулупчик надень.
Почва под толстым сугробом промерзла неглубоко. Пошел мягкий чернозем, который можно было нарезать штыковой лопатой. Вскрытая от твердой корки, земля парила на морозе и сильно пахла землей. Только зимой на стерильных снегах можно почувствовать этот дикий, первобытный запах. Земля кладбища пахла прошлым. Полынью и мамонтами. Сменяя друг друга, они закончили работу. Могила получилась аккуратной, с ровными краями, с четкой границей чернозема и глины.
— Сам бы лег, если бы дяде Грише не нужна была, — сказал старший Козлов с печальным удовлетворением. — Заслужил человек место на планете.
Снег, скрывший под собой осеннюю грязь, сиял райской чистотой. Непривычная, холодная тишина в душе городского человека оставляла гнетущее чувство случившейся катастрофы. Скрип только оттенял эту бескрайнюю, безнадежную глухомань. Они поднялись на насыпь, отделяющую Оторвановку и кладбище от мертвого города. Дорога была занесена снегом, и лишь посередине чернел звуковой дорожкой с неровными краями асфальт — от горизонта до горизонта, через всю планету. Словно меридиан, прочерченный ногтем Бога. Ни одной машины, ни одной живой души. И эта пустота дороги, пустота черных глазниц мертвого города под онемевшим, замерзшим небом вызывала такую бесприютную, такую безнадежную тоску, какую может испытать только душа, покидающая тело.
— Батя, — спросил Руслан в спину отцу, — зачем ты в этой дыре торчишь?
— Не все ли равно, где сейчас мне торчать, — ответил тот, не оборачиваясь. — Я — последний мамонт. Где торчать мамонту, как не в дыре?
Помолчали каждый о своем. И когда Руслан уже забыл о разговоре, отец сказал:
— Свои преимущества. Ни газет, ни телевидения. Один на один с небом. Здесь вымирать приятнее.
Потом Руслан не раз замечал эту особенность: Козлов никогда не прерывал беседы и мог вернуться к ней через день, а то и неделю. За долгие годы одиночества он привык беседовать сам с собой. Это обстоятельство способствовало тому, что, как правило, он говорил то, что думал. Но слова были полны тумана: они предназначались для личного пользования и не были рассчитаны на понимание собеседника. Он говорил как бы готовыми ответами, не обременяя себя доказательствами.
Во дворе деда Григория выла дворняжка, нареченная им Муходавом.
Но среди одинаково занесенных снегом домов жилище покойника выделялось не только собачьим воем. Тропинка в сугробе шире прокопана. Слишком много следов для обычного дня. Печальное место это накрыто невидимым облаком смерти.