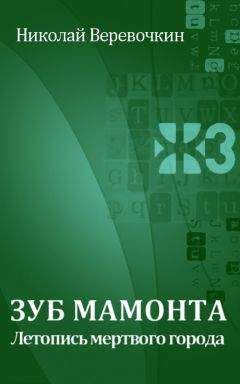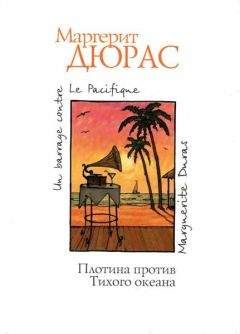— Беда, — встретила их вдова, — ходила к свояку, а он уже с утра только с третьего раза в дверь попадает. Куда ему по гвоздю-то попасть. Некому и гроб сколотить. Что делать и не придумаю.
Козлов снял с плеча лопаты. Прислонил к стене сарая. Закурил, погладил дрожащего Муходава и выпустил в небо, словно собственную душу, облако дыма:
— Гроб — дело нехитрое. Был бы материал да инструмент. Без инструмента и вошь не убьешь.
— Есть материал, есть, — опечалилась вдова и промокнула глаза углом шали. — Григорий новую лодку к лету собирался делать. Доски на чердаке лежат. Все говорил: подальше положишь, поближе возьмешь. Только от смерти где спрячешь? Все приберет. Хорошие доски, сухие. Лет десять в тени выдерживались.
— Я достану, — вызвался Руслан и позвал Муходава: — к-с-с, к-с-с.
Песик посмотрел на него умными, темными от обиды глазами — что за шутки в такой день? — и отвернулся. Стыдно стало Руслану.
Подвешенные за хвостики к стропилам, свисали паутины вентерей. Между ними зелеными птицами примостились березовые веники. Переложенные жердями доски лежали вдоль крыши. Верхние были сильно пропылены, но под ними древесина отсвечивала золотом.
— Жалко такое добро на гроб переводить. Да кому оно теперь нужно? Не дорыбачил свое Григорий. Сумеешь ли? — засомневалась вдова.
— Гроб — не лодка, — успокоил ее Козлов. — А было дело — и лодки делали.
Строгали доски во дворе. Золотые стружки падали на снег. Горько пахло смолой. Мимо, всхлипывая и причитая, черными тенями мелькали старушки. Бабья улица суетилась в печали, готовя проводы своему последнему мужику. Каждой из них, не отрываясь от скорбного дела, Козлов кивал, печально размышляя о странных метаморфозах, которые переживает женщина, становясь старухой. Он помнил их красивыми и молодыми. Они следили за модой, красили губы, работали учителями, бухгалтерами, секретаршами, малярами. И вдруг наступает день, когда женщина словно возвращается в прошлый век — надевает дошку, подвязывает по-старушечьи шаль и начинает говорить на певучем языке девятнадцатого века.
Ульяна Петровна была его первой учительницей. Он, как и все мальчишки в классе, был тайно влюблен в нее. Загадочное, необъяснимое притяжение строгости и женственности волновало его пацанячье сердце.
Петух, прижатый к окровавленному чурбану, вырывается, хлопает крыльями. Чувство достоинства его оскорблено. Подслеповатая баба Уля держит наизготовку топор с прилипшими к лезвию перьями, щурится, прицеливаясь, пытаясь разглядеть жертву через запотевшие линзы очков.
— Потерпи, мой родной, потерпи, мой красавец, — уговаривает она несчастного петуха, — сейчас мы из тебя супчик сварим. Какой из тебя вкусный супчик получится!
Тюк топором — полклюва нет.
— Что ж ты, мой хороший, вертишься, — выговаривает она, сострадая. — Так-то больнее будет.
Тюк — и на снег летит роскошный гребень.
Две бабушки стоят в соседнем дворе и ругают через забор бабу Улю.
— Ульяна Петровна, хорошая моя, что ж вы животное мучаете…
Баба Уля предпринимает еще одну отчаянную попытку лишить петуха жизни. И на снег летит его борода.
Руслан не выдерживает. Берет из рук бабы Ули несчастную, истекающую кровью птицу, топор с треснувшим топорищем и — чак! — милосердно отсекает голову.
Безголовый петух, страшно хрипя кровавым горлом, вырывается из рук, перелетает забор и бежит по сугробам, разбрызгивая по снегу красные вишни. Взвизгнув, в ужасе убегает от него дворовый пес Муходав.
Странная жизнь, первобытная жизнь открывается Руслану. В ней самые мрачные, самые трагические моменты красивы и полны юмора. Несочетаемое, несовместимое на самом деле неразделимо. Украдкой приглядывается и прислушивается он к вдовьему народу, похожему на инопланетян. Этот народ говорил на понятном, но все же другом языке. И дело не в акценте, не в строе речи, а в особой интонации, музыкальной теме, доверительной и обреченной. В любом замкнутом сообществе образуется нечто ни на что не похожее. И довольно быстро. Изолируйте этот мертвый город — и через несколько поколений появится новый народ, разговаривать с которым нужно будет через переводчика.
Во дворе стало тихо. В доме совершался страшный обряд обмывания покойника. Руслану хотелось спросить у Козлова: что это значит и моют ли мертвецу голову. Но так и не спросил. Любопытство в такие минуты неприлично.
Незнакомый Руслану дед Григорий был большим шутником. На всех фотографиях он улыбался. Даже на той, что была вклеена в старый советский паспорт. Ни одного серьезного снимка для похорон не оставил человек.
С появлением его могилы на кладбище стало веселее.
Странные это были похороны. Следом за гробом, мимо развалин мертвого города, шли тенями из прошлого старушки. Тихо всхлипывали, перешептывались, печально завидуя покойнику: «Отмучился Григорий Трофимович». Три старика шаркали подшитыми пимами в хвосте и рассказывали друг другу истории деда Григория. Покойник был неистощимым анекдотчиком. Не жалким пересказчиком, а сочинителем.
— Приезжает он в «Овцеводческий», а там, на площади, у конторы мужиков бараньими ножницами стригут. Не только то, что на голове растет. Все. Стригут, а они то плачут, то смеются. Спрашивает Григорий: «Чего слезы льем, мужики?» — «Совхоз план по шерсти не выполнил, вот товарищ Байкин и велел всех наголо. Больно, понимаешь, вот и плачем». — «Ну что ж, дело нужное, хорошее дело. А смеетесь почему?» — «Товарищ Байкин от нас на Заринскую птицефабрику поехал, а там, слышь, план по яйцу не выполнили».
— Идем с ним как-то по городу, а впереди нас дама. Бедра шире коромысла. Григорий и говорит: «Обрати внимание, Сергей Терентьевич, какие крепкие зубы у этой женщины». — «Да где ты зубы увидел? Она же спиной к нам идет». — «С гнилыми зубами такую фигуру не отъешь».
Историю о том, как охотился Алексей Акст на диких гусей, знали все. И каждый поправлял рассказчика, обращаясь за поддержкой к самому Аксту.
Вез якобы Алексей в Новостаровку водку, алюминиевые тазы, полотенца и хлеб. Только проехал озеро Кривое, глядит — казарка, тундровый гусь, летит. Туча. А ружья нет. Что делать? Наливает он в тазы водку, крошит хлеб, расставляет все это вдоль берега, а машину в тугаи прячет. Гуси покружились, снижаются. Наклевались до потери бдительности — кто крыльями землю подметает, кто в тазу купается, кто друг другу клювы чистит, а кто и спит. Тут-то Акст к ним и подползает по-пластунски, тащит за собой тюк полотенец, и давай вязать окосевших птиц.
Алексей грустно поправляет завравшегося рассказчика:
— Не полотенца, косынки…
На самом деле ничего не было, кроме того, что когда-то, еще в старой Ильинке, он работал на автолавке. Но никто никому не говорит: что ж ты врешь-то, как газета.
Неразумный старик этот Акст. Вернулся прошлым летом из Германии, не выдержав размеренного, сытого счастья. По огурцам с медом соскучился. Приехал на старую пасеку в Бабаевом бору, упал на колени и стал посыпать голову старой листвой. Думали: рехнулся. «Что ты делаешь, Алексей, опомнись». А он плачет и кричит: «Моя земля, что хочу, то и делаю!» Воздух, видите ли, на родине сладкий. Ну, дыши, дыши, дурья башка. Он пока еще бесплатный. Выкупил назад дом, пасеку и прозябает довольный тем, что умрет там, где родился.
Как и каждый хороший мужик, Акст неуловимо напоминает пса: глаза у него совершенно собачьи — без всякой задней мысли.
Замыкает процессию пес Муходав, искреннее существо. Семенит по враждебной территории на коротких ножках, поджав хвост, оглядывается. Опасается чужих собак.
В молодости дед Григорий не просто выдумывал побасенки и небылицы, он ставил их на потеху ильинцев, как пьесы. Не на клубной сцене, а посреди улицы.
Разразился как-то над Ильинкой небывалый ливень. На площади перед райисполкомом скопилась большая лужа. Час был ранний, Григорий возвращался с ночной рыбалки. Нес в ведре трех язей. Нацепил весь улов на донки и пустил в лужу.
Петухи заорали. Недолюбленные сердитые бабы погнали в стадо коров. Григорий на них орет: куда претесь, всю рыбу распугаете. А сам выбирает из лужи закидушку. По воде крутые буруны, спина у язя черная, бока серебром сверкают.
Бабы рты и разинули.
Снял Григорий с крючка язя, тот в ведре бултыхается, а на двух закидушках колокольчики заливаются.
Бабы коров — в стадо, а сами — за бредень и давай, подоткнув подолы, бороздить лужу перед райисполкомом вдоль и поперек.
С утра похмеленный дед Задорожный башкой трясет: что такое, с чего бы это — то черти мерещатся, то бабы в луже. Микеланджело Буонарроти! Сумасшедшая деревня! Один нормальный человек на весь райцентр, да и тот в стельку пьяный. Вы бы, дуры голоногие, лучше на Береговую шли. Там Ваня Пепс уже час как зимней удочкой в колодце окуней ловит.
Не было в процессии человека, который бы не прослезился, но старики плакали от смеха. Кто-нибудь вспоминал очередной розыгрыш деда Григория, и идущие рядом, зажимая рты ладонями, тряслись в беззвучных конвульсиях, так похожих на рыдания. Старая, вымирающая Ильинка хоронила себя весело. И похороны нынче — праздник.