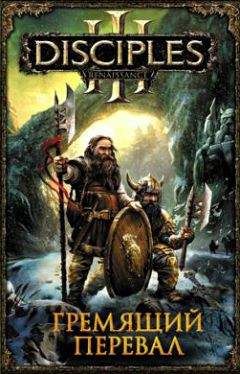На срочном профсоюзном собрании заместитель директора Калантар Биландарлы заверил коллектив пострадавшей смены в том, что сам лично разберется «в этой путанице» и сделает все от него зависящее, чтоб смена не потеряла квартальной премии.
Да… Нелегок был хлеб и Калантара Биландарлы, В этом перетрусивший Магеррам убедился воочию, наблюдая, как на глазах почернел и осунулся заместитель директора за сутки. «Язва проклятая замучила», — говорил он, прикладывая ладонь к желудку.
Но и это стало забываться со временем. Больше того, теперь хлеб не возили далеко. Биландарлы смело изменил географию реализации. Ворованный хлеб сбывали прямо в магазинах неподалеку от хлебозавода. Кое о чем Магеррам догадался, увидев случайно, как совсем по-родственному встретились Биландарлы с участковым уполномоченным старшим лейтенантом милиции Ганиевым. Завидев Магеррама, Биландарлы кивком подозвал его. «Знакомься, мой друг Мири Ганиев. — Тяжеловатый взгляд больших, чуть косящих глаз Ганиева медленно ощупал Магеррама от стоптанных туфель до маленьких, глубоко сидящих глаз. — Очень хороший друг… Ближе брата он мне». Калантар дружески похлопал по плечу Ганиева.
«Еще один, — с опаской подумал Магеррам. — Интересно, какую долю получает этот „брат“?»
И все-таки все они, главным образом, зависели от сменного мастера Севаняна — человека угрюмого, грубоватого. Он, можно сказать, в ежовых рукавицах держал всю свою смену. А это было нелегко; заработки смены Севаняна были значительно меньше, чем у остальных. Как уж удавалось мастеру гасить нарастающее недовольство, оберегать смену от ночных налетов группы народного контроля, знали только сам Севанян да Биландарлы. Люди старались, очень старались выпечь больше хлеба, а при весовом подсчете оказывалось, что и до плана едва дотягивают. Но не пойманный — не вор. Магеррам изловчился: раздобыл бланки с печатями; теперь и сто сторожей не могли придраться — на каждую выезжавшую с хлебом машину имелись безукоризненно оформленные документы с точно указанным весом, сортом… Дело в том, что машины начали часто выходить из строя, их не хватало. Поэтому, естественно, пришлось увеличить количество рейсов; теперь Магерраму удавалось вместо пяти рейсов делать шесть, семь.
Бежали дни, месяцы…
Эх, если б можно было не таиться, отвязаться от роли обремененного большой семьей, едва сводившего концы с концами трудяги! Он мог бы купить новую «Волгу» с серебристым оленем на радиаторе, дачу в Шувелянах, одеть Гаранфил в шубку золотистого каракуля… Хватило бы на все это, и еще детям бы осталось. Но времена менялись. Не только в районах, но и на каждом предприятии теперь действовали группы народного контроля. При покупке машины стали требовать справку о зарплате, о доходах семьи. А какую справку мог представить Магеррам? О том, что он единственный кормилец семьи из шести человек, которая живет на его зарплату экспедитора в сто двадцать рублей?! И он продолжал ходить в своем старом, выгоревшем плаще, стоптанных ботинках, а над кепкой его с засаленным козырьком даже посмеивались на заводе.
По ночам его мучили кошмары. Он просыпался с криком, весь в поту, ему все время, даже ночью, хотелось пить. Жажда не прекращалась. Проснувшись от его стонов и бормотанья, Гаранфил с тревогой вглядывалась в мокрое, мертвенно-бледное лицо мужа. Больше всего ее пугали его трясущиеся руки.
— Умоляю тебя, Магеррам… Болен ты. Ради детей, ради меня… Завтра вызовем доктора. Только не ходи на работу. Я умоляю тебя.
Он мысленно представлял, что случится завтра, если к проходной подъедут машины с хлебом и у сопровождающего не окажется документов на пять тонн хлеба! Как кинутся к директору или заместителю народные контролеры и Биландарлы удивленно разведет руками: «Не может быть! Представления не имею. Очевидно, все дело в экспедиторе…» Да, да. Так он и скажет, этот волк, спасая свою шкуру. И тогда… Бедная Гаранфил. Разве не больше жизни любит он эту женщину, так доверчиво отдавшую ему свою юность, свою ласковость. «Я как араб в пустыне, у которого подох единственный верблюд», — думал он с отчаянием, пытаясь унять ее тревогу.
— Какие доктора? Я здоров как бык! — Он растянул в улыбке толстые, бесформенные губы. — Съел много перед сном, наверное. Вот и просыпаюсь. Успокойся, душа моя, спи.
В одну из таких ночей Гаранфил расплакалась.
— Я не могу, больше не могу, Магеррам. Ты пугаешь меня.
— Как пугаю, свет очей моих?
— Стонешь… Зубами скрипишь. И… и… — она покраснела, — ругаешься нехорошо!
С той ночи он очень старался следить за собой. Как ни скребли кошки на сердце, домой возвращался внешне спокойным, шутил с детьми, женой. Подальше, во внутренний карман пиджака, спрятал таблетки, прописанные невропатологом, и действительно, ночные кошмары отступили. Только по утрам, как с похмелья, кружилась, голова и до полудня клонило в сон.
* * *
Гаранфил как раз успела отвести девочку в школу — младшие были у бабушки Бильгеис — и села перебирать рис, когда в дом вбежал Магеррам. На нем лица не было, волосы всклокочены, и руки, руки его опять тряслись как в те беспокойные ночи. Гаранфил уронила миску с рисом, кинулась к мужу:
— Что случилось, Магеррам? Дети? Мама?
Не слыша ее, он метался по квартире как безумный.
Вытащил из-под кровати большой чемодан, стянул покрывало, беспорядочно закатывая в него серебряные подстаканники, ложки, вилки, хрусталь.
— Послушай, Магеррам!
На секунду вскинул невидящие глаза и будто вспомнил что-то, оттолкнув Гаранфил, бросился во двор, к сараю, через несколько минут вернулся со старым, облепленым паутиной, гнилыми листьями хурджином — Гаранфил никогда прежде не видела его в доме.
И тогда Гаранфил закричала не своим голосом. Подбежал, тряхнул ее за плечи:
— Скорей, Гаранфил! Скорей… Где твои украшения? Неси. Все неси! Жемчуг. Серьги. Четыре цепочки. Все кольца неси. И с бриллиантами, и с изумрудами! Беда, Гаранфил. Пропал я. Торопись, Гаранфил!
Как завороженная бросилась она к шифоньеру, достала черную лакированную шкатулку, где хранила свои драгоценности.
— Сними серьги, Гаранфил. Кольцо… Нет, обручальное оставь. И часы оставь. А больше у тебя ничего не было и нет. Слышишь? Ничего нет. — Он перевязал шкатулку сорванным с шеи шарфом, сунул вхурджин, натискал сверху тряпок. — Я сейчас. Я вернусь, скажу, объясню…
Через несколько секунд машина отъехала от ворот.
Два ковра и сервизы они упаковывали уже вместе. Котиковую шубу, чернобурку, целую гору платьев и отрезов он беспорядочно затискивал в мешки и относил их в машину. Когда стемнело, они вдвоем перетащили в машину старинные бронзовые часы, трофейный аккордеон, фарфоровых ангелов, две картины в дорогих, резных багетах (что только не отдавали люди за буханку хлеба в голодные военные годы!).
В последний раз он вернулся к полуночи. Ботинки и брюки его были в комьях присохшей глины, руки расцарапаны.
— Быстрей, Гаранфил, быстрей. Неси с кухни посуду, стаканы, вазочки, ставь в сервант на место сервизов. На пустые вешалки повесь по одному платью. Да! Ты завернула в ковер каракулевые шкурки? Хорошо. На пианино поставь… Что-нибудь поставь… Игрушки, простые вазочки. Убери все и…
Он странно икнул и бросился в туалет. Она слышала, как его рвало, как он захлебывался и кашлял… Надо было помочь ему, дать воды, полотенце, но у нее не было сил подняться со стула.
Тихие, шаркающие шаги, втянутая в плечи голова, отчего горб стал особенно заметен, прилипшие к мокрому лбу грязные волосы… Она слегка отшатнулась, когда он направился к ней, но он взял ее за руку, потащил во двор, и дальше, за дом. Споткнувшись, Гаранфил тихо вскрикнула, но он зажал ей рот рукой.
— Тихо, тихо. У нас нет времени. Надо успеть. Дай руку, Гаранфил. Вот… Пощупай… Шестой кирпич от края. Раз… Два… — он провел ее ладонью по наружной стене. — Шестой, запомни. Шестой кирпич. У него отбит кусок. Если что… Там восемнадцать золотых червонцев. Запомнила? Вынимается легко, не зацементирован кирпич. Шестой кирпич. А теперь иди в дом, прибери там. Я немножко… Сердце. Иди, иди, Гаранфил. Я сейчас…
Он присел на старую покрышку. В лунном свете она видела только горб, тень от крыши скрыла руки, голову. Это было так страшно — жалкий, безголовый, чуть шевелящийся комок…
Гаранфил поднялась, держась за стену, бесшумно поплелась в дом…
Когда все было прибрано, вымыт пол, в серванте расставлены дешевые чашки, керамические вазочки, на пианино брошены книги, посажены куклы, Магеррам с серым заострившимся лицом внимательно оглядел комнату. Гаранфил била дрожь, она вжалась в угол дивана, не сводя с мужа огромных, диковато поблескивающих глаз.
— Дети… Хорошо, что не видели.
Магеррам встрепенулся:
— Да, да. Пусть пока побудут у матери. Солмаз я тоже отвез туда. Заехал в школу и отвез.