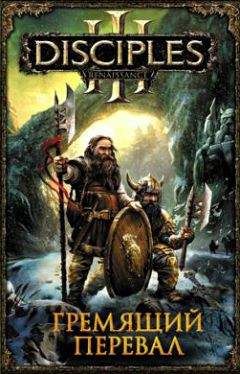— Кто там? — голос Магеррама медлителен, спокоен.
И грубый окрик:
— Открой!
Лязгнула щеколда, чужие шаги, приближаясь, оглушительно застучали в ее висках.
Гаранфил вышла в столовую, зажгла свет. Четверо в милицейской форме по-хозяйски прошлись по квартире. Потом один встал в дверях, а трое — лица их виделись ей как в тумане — бесцеремонно расселись на стульях.
Магеррам, не проронив ни звука, начал одеваться. Его колотила дрожь, он мучительно долго не мог зашнуровать ботинки… Гаранфил видела, как он крепко стиснул челюсти, чтоб скрыть нервное подергивание рта.
Старший из пришедших, не глядя на Гаранфил, негромко сказал:
— Можешь попрощаться с женой, детьми.
— Товарищ капитан, детей нет в доме. Никого нет, — из-за двери выглянул молоденький, пышноусый лейтенант.
— Очень хорошо, — с заметным облегчением кивнул капитан.
Магеррам шаркающими шажками подошел к Гаранфил, скорбно глазами, полными слез, огладил ее чуть примятое лицо, заплетенные в две косички волосы…
— Ну… смотри за детьми. Себя береги. Не бойся это какая-то ошибка. Выяснится, через день-два буду дома.
Она было потянулась к нему, но он резко отвернулся и вышел из комнаты, сопровождаемый работниками милиции.
Хлопнула калитка, приглушенно заурчал мотор, вдоль соседних заборов скользнул и исчез свет фар.
В распахнутую дверь тянуло сквозняком, хлопала форточка на кухне, а Гаранфил все стояла босая посреди комнаты, не в силах вырваться из оцепенения, двинуться с места. Может быть, слезы принесли бы ей облегчение, но слез не было. Казалось, сама тишина сдавила ее осязаемой, тяжелой массой.
Едва передвигая ноги, добралась до выключателя, погасила свет, и сразу стало заметно, как за окнами сереет утро. Съежившись на диване, Гаранфил поискала взглядом луну — нет, не было в небе подруги ее сокровенных тайн. Ничего не было. Никого не было. Одиночество, тишина, будто она одна в мире. Впервые в жизни одна.
Подождала еще немного — часы пробили семь раз — и набрала телефон матери.
— Слушаю, кто говорит? — тут же шепотом отозвалась Бильгеис, значит, дети еще спали, а она не сомкнула глаз у телефона. — Слушаю.
— Ма-ма-а-а, — сказала Гаранфил и расплакалась наконец. — Мама, отведи Солмаз в школу и ко мне с детьми… Поживешь здесь.
Теперь на том конце провода всплакнула Бильгеис: все поняла, обо всем догадалась.
— Хорошо, Гаранфил. Жди нас. Я приду. Выпей что-нибудь, успокойся. Она помолчала, прислушиваясь к вздохам и всхлипам дочери. — Дети еще вчера просили котлеты. — И уже в сторону: — Да, с мамой говорю. Одевайся, Солмаз, буди братьев. Сейчас дам молоко. Ну как, кончила ты уборку, Гаранфил? Посушила ковры? Посыпала нафталином? Спрятала? И посуду спрятала, чтоб не пылилась?
Гаранфил, слушая, кивала, как будто мать была здесь, рядом, ее терпеливая хлопотунья, заранее обо всем подумавшая, — как она хитро готовила детвору к переменам в квартире. Она, Гаранфил, даже не подумала об этом, а ведь Солмаз уже во второй класс пошла… Обязательно спросит, где ковры и почему ее куклы сидят на пианино.
— Да, я поняла, мама. Приходите скорей. Скажи, сделаю, сделаю котлеты.
Она положила трубку и поплелась на кухню. За окном, выходящим в сад, вовсю щебетали птицы, на опрокинутом ведре после ночных дуэлей деловито умывался огромный, похожий на маленького тигра, кот. Щурясь на весеннем солнце, он до блеска вылизывал шерстку, оглаживал усы. И еще что-то толкнулось в сердце ее, она даже не сразу поняла что… Этой ночью зацвела алыча и на ветру белоснежными густыми соцветьями, белым облачком колыхалась в глубине сада.
«Как невеста, — у Гаранфил заныло, зачастило сердце, растревоженное смутным видением, — что-то белое-белое окутывает ее плечи, льнет к пылающим щекам, и пенье зурны, и восторженный шепоток родственников… — Господи, алыча… Не первый год цветет, почему я раньше не видела, не замечала. У этого окна, среди кастрюль и грязной посуды, уже десять лет живу… И вот горе такое в доме, а алыча цветет».
Она умылась, подобрала волосы и через несколько минут уже разделывала мясо на котлеты.
«Скорее бы пришла мама с детьми. Как давно не жили мы с ней под одной крышей».
…Магерраму не нравились частые визиты матери Гаранфил. В открытую он, конечно, не говорил об этом ни жене, ни теще. Но, бывало, поигрывая ключом от машины, он напоминал, что ему, Магерраму, завтра рано вставать, а надо еще успеть отвезти Бильгеис домой. Мать с дочерью обменивались огорченными взглядами — им так хотелось, уложив детей, посидеть вдвоем на кухне, за стаканчиком чая. Магеррама раздражала радость, с которой встречались мать с дочерью, их привязанность друг к другу, долгие, тихие разговоры… Но разве станешь перечить главе семьи… И Бильгеис молча возвращалась в свой опустевший дом. Правда, ее иногда приглашали, — когда собирались гости на день рожденья, когда надо было помочь готовить. Ее звали в дни предпраздничных уборок или если заболеет кто-нибудь из детей. Ей разрешалось даже ночевать в доме зятя, когда он привозил еще слабую Гаранфил из роддома. Нет, что бога гневить, хорошо жила ее дочь, тут ничего не скажешь, муж исполнял любое ее желание, баловал подарками, можно сказать, как почки в жиру жила Гаранфил. Но запрет на встречи просто так с единственной дочерью постепенно озлоблял Бильгеис. Однажды, после ремонта, Бильгеис немного задержалась, — Гаранфил хотелось вместе с матерью по-новому расставить мебель, выбрать занавеси… Но Магеррам с холодной вежливостью заметил, что это не ее, Бильгеис, дело. Они с женой как-нибудь сами разберутся. Помнится, вернулась тогда домой сама не своя, всю ночь проворочалась — все вспоминала сватовство, свадьбу… Если уж быть честной, не лежала душа Бильгеис к зятю еще тогда, в первые дни, когда задаривал их дорогими конфетами, дефицитными продуктами, украшениями для Гаранфил. Нет, из зятя не получается сын, в невестке не найдешь дочь. Свое, родное, чтоб плоть от плоти, — совсем другое дело.
Она сразу обо всем догадалась, когда Магеррам начал таскать и рассовывать в ее доме узлы, чемоданы, свертки. Четыре или пять раз приезжал.
— Рухнула крыша над головой дочери, — несдержанно выпалила она в лицо Магерраму. — Лучше бы шею сломала себе в тот день, когда отдала ее тебе.
Магеррам молча стерпел оскорбление. Не до счетов было, да и где еще спрячешь ценности, если не у матери Гаранфил, которая ради дочери и внуков сохранит все это и словом никому не обмолвится.
…Она заперла за собой калитку. Трое мальчишек, опередив бабушку, бросились в дом. Когда Бильгеис добралась до кухни, все трое висели на матери, наперебой рассказывая о рыжем толстолапом щенке, — они притащили его с улицы и упросили бабушку приютить подкидыша.
Как изменилась Гаранфил за сутки! Большие глаза ее запали, лицо заострилось, поблекло.
— Ничего, мама, ничего. Скорее всего, это недоразумение, ошибка. Когда его… когда уходил Магеррам, сказал, что через день-два будет дома. Гаранфил обняла мать, шепнула, чтоб та не плакала при детях. — Ничего. Даст бог, обойдется все.
Но Бильгеис не была столь наивной, как дочь. Натерпелась с самого начала войны. Горе, нужда не красят человека, не делают его ни сильнее, ни моложе. Горе высасывает все светлое, доброе из души, поселяя там боль и горечь. «Ошибка…» По ошибке навряд ли заберут человека в тюрьму. Без следствия, без допросов, очных ставок с клеветниками. Хотя… Все может быть. Несчастная Гаранфил…
Что ожидает ее с кучей детей? Никогда не работала, привыкла на всем готовом. Жизни не знает, людей не знает. Чтоб тебе ослепнуть, Магеррам! Как ты мог допустить такое! Правда, я живу с открытыми глазами, не то что моя дочь. Знаю, кое-что припрятано у вас на черный день. Но на сколько хватит накопленного? Семья, адвокаты… Потом, когда срок дадут, надо будет еще и в тюрьме платить за каждое свидание; хоть бы один брал, а то в несколько ртов надо по куску положить.
И Гаранфил странная какая-то. Как во сне живет, все прислушивается к шагам за забором, а вечерами глаз с телефона не сводит. Даже дети ей не в радость. Надеется, ждет. Недавно Бильгеис попросила ее за хлебом выйти отказалась. Боится весточку от Магеррама упустить. А ей, Бильгеис, разве легко везде самой? Счастье, что бог здоровьем не обидел. Никто не дает ей ее сорока восьми, и порода в их роду такая — седеют поздно. Сколько сватали после смерти мужа! Хорошие люди, бывало, сватали. Из-за Гаранфил осталась одна — боялась невзлюбит отчим падчерицу, всю жизнь девочке отравит. А теперь вот крутись, разрывайся между семьей Гаранфил и своей работой. Правда, библиотека, где работает Бильгеис уборщицей, в центре города. Сначала стыдилась Бильгеис — уборщица. А потом привыкла, да и ее полюбили сотрудники, очень ценили за чистоту и опрятность. Особенно стали заботливы с тех пор, как четырежды стала бабушкой Бильгеис; домой пораньше отпускали, и среди дня могла она и в школу за внучкой зайти, и на базар сбегать, по дому дочке помочь.