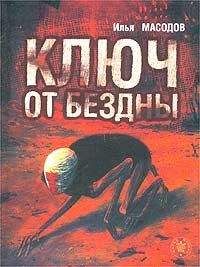И вечный.
Потому что он — старший брат времени, потому что он был уже тогда, когда Катино время ещё не началось, и она тогда уже принадлежала ему, безраздельно принадлежала ему, а это значит, что больше никто не имеет на неё права, даже сама смерть.
Парамоныч всхлипнул. Похоже было, что он просто коротко, поспешно набрал немного воздуха в горло. Это всхлипывание было его давней привычкой — им выражалось возбуждение его тонко настроенных чувств. Люди, поверхностно знакомые с Парамонычем, считали его бесчувственным, земноводному подонком, тем более, что внешний вид его соответствовал такому мнению. Парамоныч был высок и костист, и при этом что-то сложилось в нём неверно, не от рождения, а после, с годами, сразу можно было заметить: это злость, — будь то злобная зависть, злобная нелюдимость или просто беспричинная ненависть ко всему доброму, — изуродовала тело Парамоныча, засела внутри тела, можно выразиться, сделала себе из него скворешник, и там жила. Злость Парамоныча была хитра: она внешне не выдавала своего присутствия, и Парамоныч никогда не корчил рож, он был всегда спокоен, даже если ему специально наступали на ногу или дёргали за рукав, даже если его в открытую называли сволочью, на лице его не отражалось ничего — просто пустота, будто лицо это сделано было из камня и олицетворяло что-то абстрактное, например, убитую справедливость. Иногда у меня возникало даже сомнение: а потратил ли бы Парамоныч на меня пулю, если бы был пулемётом? Или просто молчал бы, глядя холодным дулом мне в лоб, чтобы я сдох, падло, сам собой.
Дело в том, что Парамоныч и в самом деле был гадом, земноводным подонком, атавизмом той древней эпохи, когда вся земля представляла собой бесплодную, тоскливую пустыню, и только такие неуклюжие, рогатые, ненавидящие землю гады таскались по ней, хрипя от ужаса и бешенства, разворачивая обрубками конечностей пустоту тверди и задыхаясь от отравленного кислородом воздуха. Вокруг Парамоныча зияла пустота ядовитого пространства, и люди были для него хуже всякой погани — они были небытием, злой, докучливой формой небытия. Они олицетворяли смерть.
Однако на самом деле Парамоныч не был совершенным гадом. В нём было что-то ещё более примитивное, более древнее, в нём было что-то от растения, или, скорее, от гриба. Целая сеть тоненьких, крошащих бытие корней пронизывала его, она была непонятной, чужой в его теле, эта сеть, и жила по своим законам: когда она цвела — Парамоныч дрожал и всхлипывал, когда съёживалась — трясся и сипел, ослино поматывая своей вытянутой земноводной головой.
Цвела она, когда Парамонычу попадались девочки, обыкновенные маленькие девочки, от семи до десяти лет, тогда грибница колюче прорастала, лезла куда-то ввысь, к облакам, грозясь безжалостно разорвать самого Парамоныча на старые, трухлявые куски.
Вот сейчас она как раз цвела, и Парамоныч дрожал, засунув руки в карманы брюк и привалившись плечом к вертикальному поручню у двери, чтобы не упасть, если троллейбус вдруг дёрнет. Девочка стояла у афиши цирка и рассматривала нарисованных там слонов. Слонов Парамоныч считал своими родственниками, они тоже земноводные, у них есть жабры ушей и дыхательный хобот, кроме того, они — глухие, толстокожие и безжалостные, они — огромные, какими и должны быть настоящие выродки, уродливые и злые скоты.
"Я тебе покажу слонов", — подумал Парамоныч и снова всхлипнул. Девочка была одна. Собственно, Парамоныч ехал в троллейбусе не просто так — он ехал к музыкальной школе, чтобы найти там себе хорошенькую девочку и проследить, где она живёт. Но теперь он уже не мог никуда ехать. Троллейбус тяжело полз к недалёкой остановке, на которой светились в вечерних сумерках огни журнальных ларьков и стояла тёмная группа старух. При виде старух Парамоныч перестал всхлипывать, и лицо его потеряло выражение, снова превратившись в маску земноводного гада. Парамоныч представил себе, как из переулка выходит стадо слонов и топчет старух, беззвучно ломая их ветхие, хворостяные тела, из которых растекается по асфальту тёмная кровь, как химическая жидкость из треснувших батареек. Троллейбус увяз на перекрёстке, перед гранатовым светофором. Перед фарами троллейбуса пошли пешеходы, все с тупыми, оскаленными лицами. Лицо одной женщины было похоже на морду безволосой крысы. Сзади на Парамоныча стал кто-то напирать, кто-то стал скрестись ему в спину, и чей-то рот глухо мычал, толкая голову Парамоныча исторгаемым тягучим звуком. Но Парамоныч уже снова думал о девочке, она была в зелёной курточке, худенькая и с косой. Парамоныч всхлипнул, и стоявшая под ним, уже на ступеньках троллейбуса, женщина, которая больше всех торопилась выйти, поморщилась, полагая, что он пьян. Кожа была плохо пришита на её лице, швы виднелись из-под волос, а где-то над ухом всё расходилось дырявым углом, и в дыре той существовала только тьма.
Наконец троллейбус снова пополз, покачиваясь и хрипя от тяжести набивших его пассажиров, двери открылись даже раньше, чем перестали вращаться колёса, женщина вывалилась, шаркнув по камню, и Парамоныч вывалился вслед за ней, упал в толпу отвердевших старух, отшвырнул кого-то, кто был раза в два меньше его, в сторону, мотнулся вдоль покрытого толстым слоем грязи борта троллейбуса, с размаху ляпнулся ботинком по луже, он совершал последовательность нужных движений, даже не думая о них, о будто плясал, выбрасывая то руку, то ногу в необходимом направлении, это был танец слона, и он вывел Парамоныча на свободный тротуар, и тогда Парамоныч поскакал, грузно, накренясь в одну сторону, тяжело ударяя ботинками в асфальт, он дрожал, вытаращив нижнюю челюсть, словно на ней росли бивни, кабаньи клыки, он дрожал и всхлипывал, перейдя в безудержный галоп, неодолимая сила швырнула его за угол дома, понесла вдоль стены, попадались обёртки и целлофановые кульки, попадались развороченные кучи опавших листьев, а впереди уже виднелась афиша, и девочка, всё ещё стояла у неё, её очаровали нелепые тени поднявшихся на тумбы слонов, я тебе покажу слонов, хрипел сам себе Парамоныч, не шевеля для этого ртом, а только дёргая мозгами, выдавливая хрип из мозгов, я тебе покажу слонов.
Она была в туфельках, в чёрных колготках, в тёмно-серой юбке, она читала афишу, повернув лицо кверху, губы её шевелились, одной рукой она крутила завязку капюшона, вторую держала в кармане куртки. Девочка повернулась и посмотрела на Парамоныча, который уже встал позади неё, у фонарного столба, всей широтой своих огромных глаз. Взгляд её длился лишь мгновение, но за это мгновение Парамоныч понял, как хрупко существо девочки, будто нежный цветок, расцветший морозной ещё ранней весною.
Девочка отвернулась к афише. Парамоныч храпливо всхлипнул. Волосы девочки, заплетённые в косу расходились пробором, просвечивая голой кожей головы. Уши были маленькие и такие нежные, каким не бывает ничто на свете. Парамоныч мысленно заставил девочку нагнуться перед собой вперёд, коса свалилась набок, обнажая чистый и тонкий затылок. Я тебе покажу слонов, безгласо простонал Парамоныч, давясь откуда-то взявшейся слюной. Глаза его стали наливаться кровью.
Девочка повернулась и пошла по тротуару, против хода троллейбусов, полурастворившись в чёрной древесной тени, иногда, правда, её освещали фары проносящихся навстречу машин. Парамоныч шёл сзади неё, под самыми стенами домов, покачиваясь, как сухопутный ящер. Девочка торопилась, ведь уже было поздно, и ей, наверное, хотелось домой. Парамоныч знал, что она живёт где-нибудь неподалёку, и все жизненные соки сгустились внутри него в тяжёлую творожную массу от предчувствия конца истекающему времени. Слоны хрипло ревели в своих ямах. Слоны шарили хоботами по земле, превращая её в удушающую, ломающую ноги грязь.
Не дойдя до перекрёстка со светофорами, девочка стала переходить улицу и остановилась посередине, чтобы пропустить несколько автомобилей. Её чёрные колготки становились белыми от света фар, будто оставляя ноги голыми. Парамоныч знал, что скоро снимет с девочки колготки и посмотрит, какие у неё пальчики, и что нарисовано на вытянутых ладошках ступней. Земноводный язык его затрепетал во рту, имитируя звуки несуществующей речи. Девочка вспрыгнула на противоположный тротуар, промелькнула мимо светлых витрин гастронома и направилась к провалу двора. Парамоныч понёсся поперёк проезжей части. Его чуть не ударило мини-автобусом. В провале двора, куда вошла девочка, было тихо и темно. Девочка шла посередине пространства, обнесённого с одной стороны забором стройки, а с другой — длинной кирпичной стеной. На стене были чёрные, наглухо закрытые окна. Далеко, метрах в пятидесяти впереди, над забором горел белый фонарь, здесь же улица освещалась только прожектором, установленном на подъёмном кране, таком высоком, что прожектор можно было считать небесным светилом. Парамоныч оглянулся, и не увидев на тёмной улице ни души, побежал вперёд.