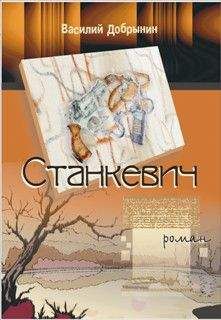Не церемонясь, не глядя, как побледнела, как, может, едва устояла она на ногах, шарил он по всей хате.
— Лестница есть? Давай, на чердак полезу!
И в погреб полезть не забыл.
— Не шути мне! — рычал он, — Я немца тебе на постой хочу дать. Офицера. Колбаской тебя, со стола побалует! Скажешь, потом еще мне спасибо.
Он все осмотрел. Все проверил.
— Ну ладно. Пошел я…
А ждать постояльца, когда — не сказал…
«Вот, — онемела, оставшись одна, Алешина мама, — права ты была Аленка! Ох, божечки, девочка, как ты права!»
В глазах было красно от света. Слепящее солнце насквозь пробивало веки, как тонкие пленки. Семеныч, как будто еще не уйдя далеко, обернулся: «Видишь, Елена, убили меня, — это значит, Алешке теперь только жить. А на войну больше нет дороги!»
«Вот, жаль! А была б ты молочницей партизанской… Да, это было б…» — вздохнул Осип Палыч, думая о Воронцовой. Карл Брегер его бы не понял, а Юрка — вполне…
— Ты, Алевтина, не знаешь, чего я пришел? А подумай! Тебе, жить захочешь, думать придется. И крепко!
Знать, зачем пришел в дом полицай, невозможно. А если сказал, что придется думать, то это может значить: все — твоя песенка спета! Он хочет! А слушать и думать — не царское дело. Не будет! Он, весовщик сатанинский, — с удовольствием, понемногу любит навешивать страх: А захочет — и сразу к стенке!
— Ты не забыла, — высверлив взглядом, спросил Осип Палыч, — где твой-то?
— Осип Палыч, да ты ж…
— Я спросил, не забыла?
— Да нет, ну…
— Какой тебе ну? Какой ну!
— На фронте он, Осип Павлович, как и у всех.
— Вот! — пригнул первый палец, начальник полиции — А сынок? — второй палец пригнул Осип Палыч. — И до каких это пор, Алевтина? — еще один палец готов был залечь, — До каких, — говорю, — я терпеть это буду?
— Осип Павлович, Вы же… О, господи, Палыч, так что же? А как нам? У всех, ты же знаешь, все там — мужики! Осип Палыч…
— Я, Алевтина, все знаю!
— Ну, вот! А мы что…
— А Рейху, башка твоя дурья, ущерб от твоих мужиков. Они морды им квасят на фронте!
— Все же им квасят...
— Что? Чего ты бубнишь? — передернулся Палыч.
И через стол, тяжело, залепил Алевтине пощечину.
— Что? — подождав, спросил опять — Повторишь может, что они там, мужики твои с немцами делают, а?
— Да, но немцы, за это не трогают баб… — пряча лицо, и слезу на щеках, — не заткнулась, — сказала свое, Алевтина…
«Упрямая, знает ведь, что все равно обломаю! Чего добивается, курьи мозги? Чего лезет?» — зверел Осип Палыч. — Не трогают, курьи мозги, пока я не скажу. А скажу! Слухи дошли, что стучали в окошко к тебе, молочка партизаны просили. Просили, змеиные дети! Да ты вон, еще им яичек вынесла. А?
— Господи! -шепотом отозвалась Алевтина.
«Душа, может, в пятки, а злится: глянь-ка… Размазать ее… А злится!»
— Вот так, партизанский пособник! Ну, может, пойду я? Да пусть тебя немцы не тронут теперь? Дай-то бог им, сердечным, здоровья. Мне-то что? На все воля божья!
Глазами, над битой щекой, прошла Алевтина по кругу, в себя заглянула, подумала:
— Ты, Осип Палыч, ведь знаешь. В окно постучат: кто такие, — не скажут. А я вам не дай — вы убьете! Да так и они. Куда мне деваться? Дала молока им, давала… Но, ведь не враги же мы с Ниной для Рейха! Тебе не враги…
— Вот то ж, Алевтина! Вот то и болит голова, за вас, баб непутевых. Жалей вас, — да чего ради? Что мне с этого? Холодно, горячо?
Алевтина вытерла щеки, сложила руки на стол. Бледная, темень в глазах; молчит — ненавидит Палыча!
— Ну, по-доброму, вижу, не хочешь. Даже не понимаешь! Пойду я, а сказкам твоим: «дай — не дай», — комендант пусть поверит! А я посмотрю.
Это был приговор.
— Чего тебе? — глухо спросила она.
— Мне? Ничего! Тебя вздернуть — у немца рука не отсохнет. А дочка?
— Что, дочка? — ужаснулась Алевтина.
— А что? Да каюк без тебя ей! Сама должна думать.
Осип Палыч сложил ногу на ногу и покачал, не спеша до блеска начищенным сапогом. Мыкнул, и, снизив голос, спросил:
— Ну, вот и где же она? — и показал головой и глазами в комнату: — М-м?
— Да, — как неживая, ответила Алевтина.
— Пусть там и сидит. Значит, пусть... А вот там, — кивнул он на улицу, — Юрка мой ходит. Так вот, пусть пойдет, туда, к ней. Ну, и… Чтоб вышел довольный! Тогда, Алевтина, — забуду. Тогда все забуду. А ей не убудет! Ты поняла?
— Скотина! — услышал он шип змеиный сквозь зубы, — А я? Ты меня уж давай, слышишь? Меня! А ее-то — ребенка… Не тронь! Это мне все равно! А ребенок? Ребенок же, изверг ты, Палыч, — ребенок!
— Вот именно, что все равно! Ну а мне-то, какой же цимус? На тебя, извини, и не встанет.
Осип Палыч поднялся, готовый еще раз ударить, — и даже прикладом, — если та вдруг полезет в защиту «ребенка».
Но та не могла: «отплыла». «И то хорошо, — вздохнул Осип Палыч, — что под рукой ничего у ней нет! А плюнет — убью! Немцам обоих отдам!»
— Эй! — слышал с улицы Юрка, — Кому говорят? Давай, быстро, сюда!
Да Аленка вот, жаль, — «партизанской молочницей» не была. И никак, ни с какого боку: она сирота…
Чего-то же Юрка в ней видел? Козочьи ножки, и плечи — как плечики для пиджака. Детского, лучше сказать, пиджачка… Спинка — не дай бог, руку положишь, — прогнется. И щечечки пыхнут. А шейка высокая, с ямочкой между ключиц. Мягенькой, теплой ямкой… Рукой бы потрогать, губами прижаться — блажь…
«Старый бес!» — усмехнулся Палыч. Ведь ямочки между ключиц, он не видел, да почему-то угадывал, думал о ней.
— Шельма! Бес! — Осип Палыч тряхнул головой.
***
Другие глаза теперь видела перед собою Аленка. После этого, были другие глаза у Алеши. В первый миг, когда угасали последние волны. Когда, обессилев, застыла она, на его утомленном теле, — на плечи легонько ложилась стыдливость. Из-под пальцев ее ускользала, как тающий воск, утомленная страстью сгоревшей, Алешина плоть. «Может, что-то не так?» — едва не всплакнула Аленка, чувствуя, что не решается глянуть теперь, как ни в чем ни бывало, Алеше в глаза.
«Все теперь…» — всхлипнула тихо Аленка. Назад, где привычно стучало всегда, возвращалось сердце. И тело Алеши ослабло, уже не тянулось на встречу…
Где-то реки текли точно так же, — обычно, как до того. Солнце светило и рожь колосилась; и шла, по-прежнему, та же война, где горели свои и чужие танки. Где так же, обычно, одни убивали других; летели в огне под откос паровозы... Ничем они, кажется, сделав такое, не изменили мир …
— Алена, — позвал он чуть слышно, — тебе хорошо? Это счастье, Аленка! Ты знала?
Весь мир обойдя глазами, Алена вернулась к нему.
— Да! Я, наверное, знала…
Пусть текут теперь реки. Война? Есть еще солнце и рожь... А главное — с ними! Она видела эти глаза. А там — она отдавала, и много готова за это отдать — там теперь была жизнь. Боль, конечно, не отменялась, но после того, что они натворили вдвоем, только что, — боль потеряла власть.
Он целовал ее пальчики. Глаза он прикрыл, но она не боялась за это. Там царили теперь не война и не боль.
— Я знаю, отчего они, цвета… — стал он искать вместо «желтые» — слово другое, получше.
— Подсолнуха, да?
— Нет, — в глаза посмотрел и сказал ей Алеша, — цвета солнца!
— И от чего?
— От чистотела. Ты спасла мне жизнь.
— Да? — грустно, уголком губ, улыбнулась Алена, — Другим соком!
— Ах… — понял Алеша, — Права ты, Аленка. Я чуть было не задохнулся! Я помню. Я помню, Алена! Смерть отступает, когда есть такое!
— А кто бы меня научил целоваться?
Тень легла на лицо Алеши:
— Ален, извини, если что-нибудь было не так...
— А могло быть у нас по-другому?
Он согласился молча.
— Теперь, когда это случилось, любовь священна, так? Значит жить нам вместе, долго, и умереть в один день…
— Да, только, через очень и очень много лет после войны, Алена!
— Я с пятого класса, Алеша, вот так про тебя одного могла думать. С другим — и представить бы не могла. А ты в это время уже был в девятом. А потом: я же все понимала, когда и сама перешла в девятый — у вас с Клавой уже было то, что теперь у нас. Пусть не так, может быть: «Я не знаю!» — подсказывал внутренний голос, а внешний сказал, — Но примерно так.
— Не так! — возразил Алеша.
А мама, на третий день после этого, глядя на сына, мысленно не уставала креститься. «Семеныч, — душа твоя светлая, — ты вдалеке и в покое… Слов добрых, твоих забыть невозможно. Будем, конечно, теперь будем жить! Боже, какие глаза у Алеши сегодня! Чудо ведь, господи! Боли в глазах не скроешь, да счастья ведь — тоже».
«Может, Аленка? — подумала мама, — Натворила чего, а? Аленка?» — подумала и улыбнулась мама.
— Юрка! — позвал Осип Палыч, — Ты помнишь, я про Воронцову?...
Дай бог, не ошибалась мама: черная. Теперь сны — не провалы в беспамятство, приходили к Алеше. Он жил, становясь с каждым утром, сильнее.