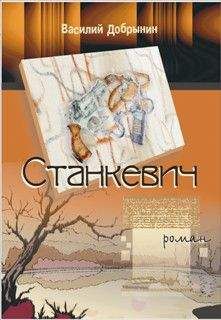Да только, оставшись одна, понимала — не легче… Две раны глубоких: одна в левой ноге, и вторая — над ней, — тоже слева, и самое худшее — в животе. Он устал. Он не мог больше с ними бороться. Война второй год, — почти два: а раненым был — с первых дней... Не мог — потому и вернула ей сына война.
— Обманули его, — пояснил Семеныч.
Ночью он, с партизанами из своих ржавлинских, пришли они к ней: на носилках — Алеша.
— Душа чудом держится, а места живого нет. Мы гангрены боялись, соврали, что ты нас просила его привести. Так бы он не согласился. Упрямый, не знаешь его ты, Елена! В бою, ему равных нет. Да только теперь-то, какая ему война? Его выходить надо, и чтобы забыл про войну! С тобой — есть надежда... А так... Не убережем тебе сына… А он должен выжить. Должен. Это герой! Выживет — с чистой совестью — твой! Только твой.
А Аленка? Понять ли ей все это? Ей знать, что такое предчувствие? Он маме, как раз накануне приснился. Река, а он на той стороне. Кричал что-то маме, и лодку пытался на воду столкнуть, а она потонула у берега. Он плот собирал, налетели бомбить. Не сыпали бомбы черные самолеты, а сами летели к воде — коршунами планировали, бревна хватали, — и в небо. А он, не зная, что делать, стоял, и ушел за высокий берег. Что сказал, прокричал — через речку, во сне, не расслышала мама.
Судьба — та же самая речка. Берег один — это берег ее, материнской любви. А другой — нелюбовь или ненависть: берег чужой. Не бывает не в двух берегах, ни одной реки. Аленка — она на каком берегу?
— … тогда мы, — услышала мама, вернувшись к Алеше, — их уже сотнями клали. Мы их воевать, как на празднике — разучили. Мы их научили ползать, и руки драть к небу. Вот так, Аленка! За месяц, пока оборону держали, нога зажила. С тех пор перестал и зарекся быть обузой! Извини, что не все получилось. Уж извини...
Он был без сознания. Боль, как кипящий навар, поднималась в нем выше и выше:
— Я не знаю, Аленка, что делать сейчас, извини…
«О боже!» — подумала мама. И вспомнила бревна, в когтях самолетов: а немцы узнают о сыне? А могут… «Тогда уже все!» — без Аленкиных слов, понимала она. Любви материнской не место, в военное время — она безоружна! Аленка права.
В Аленкином доме, с двадцатых годов, проживал, занимающий цоколь под мастерскую, стекольщик Андреич. Немцы его завалили работой, — еще бы, стекольщику, после бомбежек! Аленке Андреич сумел, из немецких запасов, наладить оконца, а после забрали его, он исчез и стекольное дело, как многие люди, и как дела их, на этом умерло.
Но, еще до того, как стекольщик исчез, немцы какую-то вывеску, на немецком, прибили к двери. Чтобы наши не подходили. Теперь и не подходили: одни — потому, что боялись; другие — зачем им стекольня без рук стекольщика? Дом, разваленный на половину, остался пустым.
В ночь, когда третьи сутки шел мелкий, холодный дождь, на тележке стекольщика: длинной, под рамы и легкой, на велосипедных, надутых колесах, Алена и мам перевезли Алешу.
Он лежал под дерюжкой, торчали наружу ноги босые. Лицо под дерюжкой, — как мертвый. Ночь — комендантское время, но если покойника, без церемоний, тихонько катят — бог с ним, и смотреть — да кому оно, к черту, надо? Прошли, повезло, — их ни кто не окликнул, дай бог.
— Аленка, смотри! Нет несчастия выше, чем пережить своего ребенка! Смотри... — попросила Алешина мама.
Не воля и совесть господа вершат ныне судьбы людские, а руки. Теперь судьбы, как вещи, легко переходят и так же теряются запросто — вещи случайные, в чьих-то руках. Она б не пускала Аленку, — да он бы не понял. И не отдала бы его, никому, — и Аленке. Но, если его: «Окруженца», больного, калеку, могли и не тронуть, могли бы… Да он ведь таким не считался. Он был «Окруженцем», давно, в первый год, а теперь — партизан. А это уже приговор!
На обратном пути, без тележки, без сына, встречал маму ветер. Сын, — теперь на другом берегу. «Не отдам! Только Вам, тетя Лена, отдам если надо. И даже не трону…» — не слушала б мама, да могла ли забыть самолеты? Когтистые, черные, — коршуны, воронье!
Ветер выстуживал струи гоня их, потоком, не вниз, а вглубь, в лицо. Вымывали соленый, горючий привкус из маминых глаз, и катились они к земле.
Аленке всего только двадцать, а вдруг она, мудростью древней, седой Изергиль, поняла: до войны не боялись счастья! В голову такое прийти не могло. А теперь случилось. Пряча, с оглядкой, сало, немного муки, самогона пол-литра, которые, ей повезло, — наменяла, отдав стеклорез и линейку Андреича, Аленка тяжелым пятном на спине, ощутила чужой, нездоровый взгляд. Это смотрел Осип Палыч, начальник полиции.
«Махорку, наверное, варит. — решила торговка. — Зачем, — неизвестно: теперь ведь и черта поварят — чтоб выжить! Но пальцы — чего будут желтыми? Не от махорки?»
Но нахмурился Палыч, — каким-то чутьем уловила Аленка, — не потому, что увидел ее пожелтевшие пальцы.
«А зачем это ей?» — оценил он закупку. Семья Воронцовых, с последним составом ушла на восток, но эшелон угодил под бомбежку. Аленка вернулась обратно в Ржавлинку, одна.
Ничего не сказал, да, похоже, и не собирался, начальник полиции Палыч. Он же не знал, что война, отобравшая все, не доглядела вдруг, и попала случайно в Аленкины руки, кроха-краюшка счастья. И за нее стало страшно Аленке...
«Нравилась же, пигалюшка, сыну…» — подумал начальник полиции. Перед войной, в выпускных это было, да так и прошло, бесполезно. Теперь — пигалюшка такая же, с желтыми пальцами, ростиком так же — подмышки. К чему она — думать о ней? Да вот сало, мука, а — небось, две зимы, берегла, — отдавала сейчас дорогие иголки для швейной машины и нитки… И, — брала самогон… Не понял ее Осип Палыч. Не нравилось это…
— Я тут, Воронцову сегодня видел…
— Угу, — буркнул сын.
— Не забыл? Вижу — нет! Ты, теперь-то ее потрепал хоть, по холке?
— Не-е, батя, не потрепал.
— А чего, не дается?
— Не-е…
«От «Зингера» иглы» — припомнил Палыч.
— Слышь, а сходи-ка ты к ней.
— Что, сейчас?
— Нет, пожалуй… потом, как скажу.
«Антонов огонь» — вот что пугало. Дрожь, сквозняком, как выстрел, хватала от пят до затылка. Не только в холодные, первые дни, но и после, когда засветило солнце.
— Самогон. Выпей Леша, так надо! — просила она.
Он слушался и забывался, убитый выпитым. А она, в самогоне же, вымочив палочку, обожженную лампой, становилась глухой и слепой, ко всему. И не понимала, совсем, что такое боль: ни в себе, ни в других. И — в нем!
Он был горячим и мертвым, вначале. Она в это время снимала повязки. Лучинкой тупой, почерневшей от крови, огня, самогона и боли, — влезала в раны. А если они, по ее недосмотру, за ночь зарастали натянутой, синей, с прожилками гноя, кожей, — лучинкой и пальцами, кожу Аленка рвала, вручную. Давила, ложась иногда, на ладони, всем телом. От этого он просыпался.
Кричал. Аленка сто лет не забудет — как! Прятал руки, боясь причинить ей боль. И никогда он, ни разу, не разомкнул своих губ. Связки рвались и гудели огнем, как в глухой паровозной топке. Беззвучно кричал! И руки — он прятал их от Аленки!
Сто лет, на всю жизнь, до последнего дня, не забыть ей такого крика!
Пала духом Аленка. Ну что же такого, смотрел, со спины на нее, Осип Палыч… И что? Ничего, только ноги, домой не несли. В крапиву густую, куда закатилось и заросло колесо от разбитой машины, шагнула Аленка, едва только выйдя с базара. Присела, вжимая в резину, нагретую, мертвую, пальцы. Страх подкатил, тошнотой невесомой, пугливой, — как в детстве, случилось однажды. Тогда успокоила мама, смеясь и жалея: «Аленочка, ты не волнуйся, теперь так и будет. Всегда, каждый месяц — растешь ты, Аленушка, все хорошо. Становишься женщиной, это, девочка, надо понять — это счастье!»
Тяжелым пятном лег на плечи и сердце, чужой, нездоровый взгляд. А внизу, на железном скелете колесного обода, были следы: пересохшей крови, вперемешку с землей и кривыми сгустками. Поняла Аленка, что боится счастья.
В этот день узнал Алеша, сколь солоны, сколь горячи и отчаянны губы Аленки.
— Аленка, ты что? — удивился он.
Но руки: как неокрепшие стебли, тянулись, как солнцу живому, — к ней. «Ох!» — изумилась, затихла, боясь обмануться, Аленка. Не как кипяток, — просто, теплыми были ладони. Всего лишь! Но вот что ведь значило это: «Антонов огонь», в котором вот-вот закипала Алешина кровь — отступал. Она целовалась, впервые в жизни. «Еще не умею…» — смущалась, видя искорки изумления, в близких, раскрытых глазах.
Она устыдилась, всплакнула, на кухне. Был, — они оба привыкли: всегда, над его головой, перед ним, — потолок и куски серых стен. А глаз не могла она видеть: там был капитан; там разбитая пушка; кровавый закат, куда уходили все те, кто шел раньше Алеши. Боль разбитого тела, «Антонов огонь», и вся боль, о которой достаточно знать только имя — Война. Аленку щадя, он держал это все под закрытыми веками. «Я же, — хотела иной раз, признаться, Аленка, — цвет глаз твоих, так, позабуду!»/