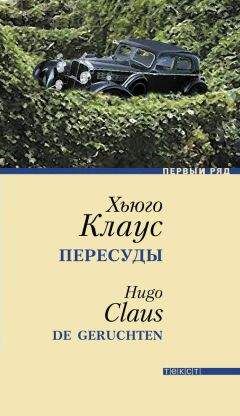— Ладно-ладно, — говорит Шарль. — Как мы веселились в Кибомбо, помнишь?
— Да уж, там мы посмеялись от души!
В Кибомбо Мишель отрезал черным детородные органы, но только самые длинные, ему было жаль тех, у кого они маленькие. Или очень тонкие. Иногда мы видели, как он скребет голову, запустив пальцы в соломенно-желтую шевелюру, запутавшийся ариец, ополчившийся на черные пенисы. Большой, маленький — а кто скажет, какова норма? Наверное, Мишель мог ответить. После Кибомбо он больше так не делал: невеста, учительница из Хасселта, запретила ему. Она писала: «Таким поведением ты вызываешь у противника жажду реванша».
В Кибомбо была улица, где позволялось жить только крестьянам, лишившимся рук или ног. Конечности были обрублены выше локтя или выше колена. За ними хорошо ухаживали. Регулярно, особенно перед визитами вождя племени, инвалидов возили в автобусе во дворец Симона Букуле, и там, в тронном зале, они играли в футбол.
В Кибомбо Кэпа и его людей часто приглашали на праздники, где жирный, голубовато-серый Симон Букуле, закутанный в кипенно-белый бурнус, пел I can't get по-о satisfaction[48] под аккомпанемент двух аккордеонистов. Букуле всегда сам платил Кэпу нешлифованными алмазами, доставал их из вышитого льняного мешочка. Время от времени Кэп давал одну-две штуки солдатам, проявившим особое мужество. Иногда — меломану Шарлю или Марку де Йонгу, прошедшим его школу в Северной Корее.
Букуле отслужил девять лет в правительственных войсках, получил звание капрала. Потом бунтовал, голодал, сидел в тюрьме, вел политическую борьбу, болел малярией и, весь израненный, мечтал о реванше, когда наемники помогли ему взять власть. Хватило трех броневиков, поддержанных заградительным огнем и гранатами, кое-кого придушили, других прирезали зазубренными ножами. Теперь Симон Букуле обленился, валяется в постели, ему делают педикюр и поставляют белых шлюх.
— Симон, — сказал Кэп, — я прослежу за твоими соседями, за всеми тремя.
— Кэп, — он едва шевелил губами, — если два слона бьются друг с другом, кто чаще всего проигрывает?
Когда Кэп задумывался, он выглядел, как и Мишель, глубоким стариком.
— Слабейший, — ответил он наконец.
Симон Букуле покачал головой, втянул дорожку кокаина, откинулся на подушки, удовлетворенно и насмешливо поглядел на Кэпа и, наконец, проронил:
— Трава.
Рене с удовольствием подъехал бы к родительскому дому на джипе, но не стоит дразнить соседей. Он бредет пешком в сгущающихся сумерках. Хватаясь за ненадежные стволы деревьев, присаживаясь иногда на мокрую землю.
Слышен перестук колес по рельсам, гудок паровоза — а он видит другой поезд, ползущий по рельсам, извивающимся меж синих, осыпающихся от старости гор. Запах гвоздики поднимается над землей. Чернокожие малыши с белоснежными кудрями прячутся, когда Рене оглядывается. Но стоит ему отвернуться, снова машут бумажными флажками с эмблемой какой-то бельгийской компании На них армейские рубашки хаки. На одном — солнечные очки с выпавшим стеклом.
— Подите-ка сюда, — командует Рене невидимой толпе. Ему не хватает Шарля. Ему не хватает Кэпа, командира, который мог объяснить все на свете, крепко пил и утверждал:
— Солдат без виски — что авто без бензина.
Не хватает топота марширующих солдат, выкриков Dieu le veut, не хватает эха, вторящего этим крикам: взрывов бомб на рынках, взлетающих на воздух бензоколонок, горящих школ. Им давались инструкции по установке противопехотных мин. Но никогда не хватало денег на специалистов по разминированию. Веером разлетаются части тел и внутренности.
Рене движется к дому. Сквозь кусты, ползком. Уклоняясь от веток, хлещущих по лицу. Товарищи по оружию предали его, ускользнули, он катается по земле, корчась от боли в животе. Любое резкое движение вызывает боль, рубашка приклеилась к обожженной спине и плечам, к ободранной коже.
Он входит в деревню, и жители видят его. Он держится очень прямо, с ним никто не здоровается. Алегем в ужасе. Кто знает, какая кара падет из-за него на деревню. Эти дезертиры опасны, они все повязаны секретным соглашением, как Иностранный легион.
Неожиданно он оказывается на улице, где живут родители. Тоненький звон колокольчика. Рене продвигается вперед, держась руками за прилавок, потом за косяк двери, потом за край буфета. Альма роняет вязание, хватается за поясницу. Лицо Дольфа проясняется.
— Так-так, — говорит Дольф.
— Я все время о тебе думала. — Это не жалоба. Альма не ждет ответа. — Ты то приходишь, то растворяешься в воздухе. А мы все ждем и ждем.
— Мама, — вырывается у Рене непроизвольно.
— Тут какие-то двое искали тебя, — встревает Дольф. — Я сперва решил, они из налогового управления.
Селия, дочурка директора молочной фабрики, крутила свой хула-хуп в полном одиночестве, некому было восторгаться ее ловкостью. Тогда она решила пойти в лес, чтобы отыскать там волка. Но волк никак не попадался. Селия обещала маме вернуться к пяти, пришлось прекратить поиски волка и повернуть назад, но тут она наткнулась на джип с незапертыми дверьми. Автомобиль выглядел так, словно в нем устраивали петушиные бои: сидения, пол, окна — все было облеплено птичьими перьями. Она вскарабкалась на шоферское место, уселась за руль. Нажать на клаксон не посмела. «Ту-ту! Ту-ту!» — крикнула она. Отозвались только дикие голуби.
Она проинспектировала сложенное в автомобиле барахло и поняла, что владелец машины — странная личность. Хотела зажечь спиртовку, но не нашла спичек. Отхлебнула из походной фляги — там оказалось выдохшееся пиво. Сунула пальцы в баночку с теплым апельсиновым джемом, облизала их и вытерла о рукав солдатской рубашки. Потом внимательно прочла единственную нашедшуюся книжку — комикс «Франс и Лизка»[49], грызя половинку засохшей шоколадки «Баунти».
— Где тебя только носило? Ты вся в поту! — встретила ее мать. И, повернувшись к отцу, добавила: — По-моему, у нее температура.
Тот сунул дочери под мышку термометр, проворчал:
— Да эта штука не работает, — и принес другой термометр, из спальни. — И этот не работает, что за дела? Разом взлетает до самого верха.
— Похоже на брюшной тиф, — сказал доктор Вермёлен.
— Она весь вечер проплакала, — заметила мать Селии.
— Я с таким никогда не встречался, — сказал доктор Вермёлен.
— Я с ума схожу от ее плача. И муж тоже!
— Брюшной тиф или столбняк, больше всего похоже именно на это.
Назавтра он смерил температуру во рту у Селии, в заднем проходе и во влагалище. Сорок градусов Цельсия. Еще через день — сорок один.
— Ни одна живая клетка этого не выдерживает. Ваша дочь, как это ни удивительно, человек-саламандра.
Через несколько часов Селия была еще жива и пела рождественскую песенку.
Песенку, продолжавшую звучать в ушах директора молочной фабрики и после того, как Селия умерла. Обезумевший от горя отец обошел множество книжных магазинов и киосков, просматривая выпуски комикса «Франс и Лизка», но не обнаружил ни в одном из них сходства с измятой, заляпанной, свернутой в трубку брошюркой, которую нашел в кармане куртки дочери. В ней Франс (с огромной, как у взрослого, елдой) занимался содомией с Лизкой, что не мешало обоим одновременно свинговать, а присутствовавшей при этом тетушке Сидонии наслаждаться кока-колой.
Несчастный отец не решился рассказать никому, включая жену, где он обнаружил эту грязную книжонку. Время от времени ему приходилось подавлять приступы смеха, но сотрудники фабрики находили эту неловкость вполне объяснимой.
— Невроз, — сказал доктор Вермёлен. — Расстройство вазомоторной системы. Может привести к истерии.
Теперь не только у нас в «Глухаре», но и в деревне, и во всей провинции ни о чем другом уже не говорили. Стан, деревенский полисмен, после десятого стакана пива заявил, что никакого официального расследования по распоряжению начальства проведено не будет, наоборот, в комиссариате считают, что такое количество почти одновременных смертей в Алегеме — чистая случайность. В следующем году, может статься, вообще никто не умрет.
— Ладно, Стан, не болтай глупостей.
— Для чего-то это было необходимо, — констатировал Е.П. Ламантайн. — Неясно одно: для чего? Диана, достань-ка мне Pommard[50], что на третьей полке слева.
Наша Диана, утомленная жизнью, бывает забывчива. Стоя в подвале перед третьей полкой слева, она не может вспомнить, какой из производящих этот сорт виноградников называл Преподобный. Впрочем, виноградник Е.П. как раз забыл назвать. Но она и этого не помнит. Вот что ее беспокоит. Ей представляется горестное утро, когда из-за очередной оплошности ей придется покинуть своего величественного хозяина. Без нее он точно пропадет, на прошлой неделе, задумавшись, он едва не отправился в церковь, отпускать грехи, в домашних тапочках.